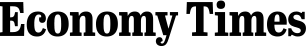Когда и почему Германн сошел с ума?
Ответ, на первый взгляд, очевиден. Германн, главный герой «Пиковой дамы» А. С. Пушкина, играя в карты со знаменитым игроком Чекалинским, дважды выиграл крупные суммы денег, не смог выиграть в третий раз, лишился всего своего состояния, и его мечта о богатстве рухнула. В этот момент ему показалось, что пиковая дама, похожая на старуху-графиню, ему подмигнула, и он сошел с ума. Такова традиционная интерпретация событий повести, написанной в Болдино осенью 1833 г. Но верно ли это объяснение и исчерпывает ли оно замысел Пушкина?

Для обоснования иной версии судьбы Германна прочтем великую повесть еще раз, при этом нас будет интересовать два вопроса. Первый – что на самом деле происходило во время карточных игр, в которые играют герои повести, формулировка же второго вынесена в заголовок этой статьи.
Фараон и теория вероятностей
Есть у Пушкина произведение, в котором исторические детали играют особую роль. Это – «Пиковая дама». Правила карточной игры, которой увлекаются герои повести, обычно незнакомы современному читателю. Но, не зная этих правил, нельзя адекватно понять и содержания этого произведения. Заметим, что знакомство с русскими карточными играми XIX века полезно не только при чтении Пушкина. Так, в рассказе Л.Н.Толстого «Два гусара» граф Турбин смотрит на игру и громко говорит: «Скверно!». «Что же вам не нравится, граф? – учтиво и равнодушно спросил банкомет. — А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно». Как Турбин сразу понял, что банкомет – шулер?
Между тем игра, описанная в «Пиковой даме» и «Двух гусарах», очень проста. Ее название – банк, фараон или штосс. Игроков может быть только двое – банкомет и понтер, но понтеров может быть несколько. У каждого игрока своя колода карт, в пушкинское время обычно играли колодами из 52 листов. Перед игрой определялся размер минимальной ставки. Понтер доставал из своей колоды карту, на которую назначал ставку. Карта лежала на столе рубашкой наверх, так что ее никто не видел. Деньги можно было положить на карту или написать сумму («куш») — обычно мелом на зеленом сукне карточного стола.
После этого понтер сдвигал («подрезал») часть колоды банкомета, и тот начинал метать карты, выкладывая их по одной (рубашкой вниз), сначала направо, потом налево, затем снова направо, налево и т.д. Когда банкомет вытаскивал карту, на которую была сделана ставка, понтер должен быть открыть свою карту. Если карта, которую поставил понтер, ложилась направо, выигрывал банкомет (тогда говорили, что карта понтера «убита»). Масть при этом не имела значения. Если налево – выигрывал понтер (карта была «дана»). При совпадении карт выигрывал банкомет. Если игроков было несколько, для каждого из них действовало то же правило. Если у понтера карта выигрывала при первой метке (или прокидке), это называлось «выиграть соника».
До начала метки карт банкометом понтер мог увеличить ставку, загнув один или несколько углов своей карты («загнуть пароли»). Один угол означал удвоение ставки, два – увеличение ставки в четыре раза. Простая ставка называлась «семпелем». Герой рассказа Толстого быстро понял, что банкомет – шулер, и для знающего правила игры читателя это тоже почти очевидно. Банкомет позволял понтеру выигрывать простые ставки («давал» «семпеля»), а сам выигрывал удвоенные («бил» «углы»).
В самой игре могла применяться различная тактика. Осторожный понтер играл «мирандолем», то есть не увеличивал первоначальной ставки, азартный же мог начать ставить «на руте», то есть постоянно увеличивать ставку на одну и ту же карту, надеясь, что рано или поздно она выиграет и можно будет отыграть все прежние проигрыши. При достаточных финансовых ресурсах понтера и равных с банкометом шансов на выигрыш такая азартная игра могла бы дать хороший результат.
Но каковы были шансы игроков? И в российской, и в зарубежной литературе часто утверждается, что шансы на выигрыш у банкомета и понтеров равны. Эта же мысль звучит в спектакле «Пиковая дама» в петербургском Театре им. Ленсовета. На самом деле это не так, и у банкомета вероятность выиграть больше, чем у понтера. Объяснение дает теория вероятностей. В начале игры первая карта выкладывается направо, и в этом случае выигрывает банкомет. Карта понтера – вторая, и он может выиграть только в том случае, если до него не выиграл банкомет, то есть выигрыш понтера – условное событие.
Приведем простую иллюстрацию. Пусть в колоде всего четыре карты – два туза и два короля (масти значения не имеют). Понтер ставит на туза. Вероятность выигрыша банкомета при первой прокидке – ½. С вероятностью ½ направо ложится король и в колоде остается два туза и один король. Теперь вероятность того, что налево ляжет туз – 2/3, но выигрыш понтера – условное событие и его вероятность равна всего 2/3 х (1 – ½) = 1/3. Но если налево опять ложится король, то в колоде останется только два туза и при следующей прокидке банкомет гарантированно выигрывает. Таким образом, итоговая вероятность выигрыша банкомета составляет 2/3, а понтера — только 1/3, то есть вдвое меньше. Для колоды в 52 листа разрыв сокращается, вероятность выигрыша игрока — 48%, банкомета — 52%. Ситуация в какой-то степени аналогична дуэли, в которой дуэлянты стреляют по очереди. Понятно, что первым стрелять лучше.
Вернемся к «Пиковой даме». Карточные термины появляются уже в эпиграфе к повести. Пушкин с иронией называет игру «делом», в ходе игры понтеры «гнули от пятидесяти на сто», то есть загибали углы, чем удваивали 50-рублевую ставку до 100 рублей. Первая фраза повести сразу вводит читателя в мир игры: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Один из игроков, Сурин, жалуется, что никогда не горячится, играет мирандолем, а все проигрывается. Это не должно нас удивлять – Сурин ведет простую игру, а в среднем каждый понтер проигрывает. Игроки поражаются Германну – он всегда следит за игрой, но ни разу не брал в руки карты и «не загнул ни одного пароли», то есть старается удваивать ставки. Однако в начале повести Германн еще полагает, что он «не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
Другой игрок, Томский, рассказывает о своей бабушке-графине, которая в молодости узнала тайну выигрыша в карты. Играя в Версале против герцога Орлеанского, она выбрала три карты и поставила их одну за другой – «все три выиграли ей соника», то есть с первой прокидки. Бабушка открыла свою тайну только некоему Чаплицкому, который проиграл 300 тысяч рублей. Тот поехал к своему победителю, «поставил на первую карту пятьдесят тысяч, и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе, — отыгрался и остался еще в выигрыше».
Рассказанный Томским анекдот сильно поразил воображение Германна. Он решился узнать у 87-летней графини тайну трех карт. Для достижения своей цели он начал ухаживать за воспитанницей графини, Лизаветой Ивановной. Проникнув в дом графини с помощью Лизаветы Ивановны, назначившей ему свидание, он умоляет старуху «назначить ему три верные карты». Графиня отвечает, что вся история с тремя картами – всего лишь шутка. Германн не верит, начинает угрожать ей пистолетом (впрочем, не заряженным), она пугается и умирает. Он не чувствовал угрызений совести, «одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой он ждал обогащения».
Германн пошел на похороны, только «чтобы испросить у ней прощения». Однако похороны подействовали на него очень тяжело. Когда он наклонился к телу покойницы, ему показалось, что она посмотрела на него, «прищуривая одним глазом». Он подался назад, «оступился и навзничь грянулся об земь».
После похорон графини Германн был «чрезвычайно расстроен» и обедая, «против обыкновения своего, пил очень много». Вернувшись домой, он крепко заснул. Проснувшись без четверти три, он услышал, что кто-то отпер дверь и затем увидел женщину в белом платье – это была графиня. Она сказала Германну, что тройка, семерка и туз выиграют, но поставила условие, чтобы в сутки он ставил по одной карте и потом уже больше в карты никогда не играл. Графиня простила ему свою смерть с тем, чтобы он женился на ее воспитаннице. После этого она скрылась, Германн услышал, как хлопнула дверь в сенях. Он пошел к денщику, тот был «пьян по обыкновению», и от него «не было никакого толку». При этом «дверь в сенях была заперта».
Поверив видению, Германн стал мечтать о крупной игре, хотел было ехать в Париж, но в Петербург приехал известный игрок Чекалинский. Германн отправился к нему. Тот вел большую игру – вокруг «теснилось человек двадцать игроков». Чекалинский метал медленно, останавливался после каждой прокидки, чтобы урегулировать расчеты, при этом «учтиво вслушивался в требования проигравших» и «еще учтивее отгибал лишний угол, загнутый рассеянною рукою». Ирония Пушкина понятна – у выигравшего понтера порой появлялся соблазн загнуть угол своей карты и тем самым удвоить выигрыш – это было банальным жульничеством, которое банкомет должен был замечать и пресекать.
Германн поставил карту, надписал над ней мелом куш. Поскольку его ставка в 47 тысяч была велика – до него никто «более двухсот семидесяти пяти семпелем не ставил», Чекалинский попросил предъявить наличные деньги. Германн вынул банковый билет, подал его Чекалинскому, который «бегло посмотрев его» (на самом деле, очевидно, весьма внимательно), «положил на Германнову карту». Банкомет стал метать. Направо легла девятка, налево тройка. «Выиграла! – сказал Германн, показывая свою карту».
На следующий день вечером Германн приехал играть и поставил на карту 94 тысячи. «Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Германн открыл семерку. Все ахнули». Итак, он два вечера подряд выиграл соника – его карты сразу ложились налево от банкомета.
В решающий третий вечер Германн снова поставил на карту все свои деньги – теперь уже 188 тысяч. У банкомета тряслись руки, это было похоже на поединок. «Направо легла дама, налево туз. — Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту. — Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как он мог так обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его… — Старуха! Закричал он в ужасе». Германн сошел с ума. Он не женился на воспитаннице графини, Лизавета Ивановна вышла замуж за «очень любезного молодого человека», имевшего «порядочное состояние», сына «бывшего управителя у старой графини». Об источнике состояния этого человека догадаться несложно.
Главный момент повести, который часто ускользает от внимания читателя – когда Чекалинский начал метать, дама легла направо, туз налево. Если бы Германн вытащил из своей колоды туза и поставил на него, как и собирался, он бы выиграл и в третий раз, и спокойно унес бы домой 376 тыс. рублей. Этого не случилось – «он обдернулся», вытащил из колоды вместо туза пиковую даму. Обратим внимание на то, что впервые названа масть карты, в принципе не имеющая значения для результата игры.
Максимальное жалование, которое получал в своей жизни Пушкин, было 5000 руб. в год
Еще один важный момент – насколько велики были суммы, которые выигрывали и проигрывали игроки. По окончании лицея Пушкин получил чин коллежского секретаря и 13 июня 1817 г. был зачислен в Коллегию иностранных дел с жалованием в 700 рублей в год. Максимальное жалование, которое получал в своей жизни Пушкин, было 5000 руб. в год, причем это было специальное жалование, формально не соответствовавшее его чину. Поэтому 47 тысяч рублей, первоначальная ставка Германна, — очень большая сумма, от потери таких денег вполне можно было сойти с ума.
Who is Mr Призрак?
Итак, внешний ход событий ясен.
Но что же на самом деле происходило с психикой Германна? Возможны различные варианты интерпретации произошедших событий, зависящие от нашего понимания роли призрака графини:
- Призрак открыл Германну тайну трех карт, графиня действительно простила его, надеясь, что он составит счастье Лизаветы Ивановны. Германн в третьей игре ошибся, вытащил из колоды не ту карту, и проиграл. («Добрый призрак».)
- Призрак хотел отомстить Германну, поэтому сначала помог два раза выиграть, а затем как-то повлиял на Германна, поэтому он, ставя карту, обдернулся и вытащил пиковую даму. («Злой призрак».)
- Призрака вообще не было, он померещился Германну, он два раза случайно выиграл, в третий раз так же случайно проиграл.
Какой из вариантов «правильный»? Сама постановка вопроса может быть признана спорной. Вообще говоря, каждый читатель может по-своему воспринимать литературное произведение. Взаимоотношения писателя, текста и читателя могут строиться по-разному. Но будем исходить из того, что коль скоро текст существует, мы можем анализировать действия героев так, как будто они являются реальными людьми. Не зная точно, что хотел сказать Пушкин, мы можем попытаться понять, какие наиболее адекватные выводы можно сделать из имеющегося у нас текста повести.
Прежде всего, требует пояснения вопрос о «реальности» призрака графини. В художественной литературе можно выделить по крайней мере две ролевые функции или «модели поведения» потусторонних сил и, в частности, призраков. Первая модель – действия призрака отца Гамлета (модель 1). Он реален в том смысле, что его одновременно видят несколько человек, он сообщает Гамлету новую информацию. Конечно, Гамлет подозревал, что отец был убит Клавдием. Однако призрак раскрывает ему детали убийства, что впоследствии помогает Гамлету дать правильные указания приезжим актерам, поставить пьесу «Мышеловка» и фактически вынудить Клавдия признаться. Мефистофель же в «Фаусте» Гете и Воланд в «Мастере и Маргарите» Булгакова вообще являются главными действующими лицами этих произведений.
Другое дело – черт Ивана Карамазова (модель 2). Сначала он выглядит реальным собеседником, но постепенно становится ясно, что он лишь выдумка самого Ивана. В разговоре черт даже рассказывает анекдот, придуманный самим Иваном за несколько лет до этого. Черт Ивана – плод его болезненного воображения. Вполне логично поэтому, что во время суда над братом Дмитрием Иван не может обнаружить черта под столами судейских чиновников.
В других произведениях Пушкина присутствуют обе модели. В «Каменном госте» статуя командора вполне реальна – Дон Гуан здоровается с ней за руку, после чего они оба проваливаются. В повести «Гробовщик» — противоположная ситуация. Все разговоры гробовщика Адрияна Прохорова с покойниками происходят во время его сна, после того как он напился в гостях у немца Готлиба Шульца, пришел домой пьян и завалился спать.
В повести «Пиковая дама» модель 1 соответствует первым двум вариантам интерпретации призрака графини, модель 2 – третьему. Какие аргументы в пользу адекватности той или иной модели можно почерпнуть из текста повести?
Первый вариант, «добрый призрак графини», в которого поверил Германн, явно неуместен. Все, что мы знаем о характере графини, не дает нам повода считать, что она была способна на такое христианское всепрощение. В принципе, ее целью могла быть забота о воспитаннице. Но можно ли поверить в такую любовь старухи к Лизавете Ивановне? Даже если она хотела таким образом облагодетельствовать воспитанницу, попытка выдать ее замуж за фактического убийцу выглядит, мягко говоря, нелогичной. Если же речь идет о мести воспитаннице за невольное соучастие в убийстве, то призрак перестает быть добрым.
Вариант «злого призрака» интересней, но тоже спорен. В этом случае главный мотив графини – месть. Но если она могла так сильно влиять на происходившие события, то и отомстить Германну можно было гораздо проще, заставив его проиграть в первой же игре. Что, если Германн (все же его называют немцем), выиграв два раза, сдержал бы себя и не пошел бы играть в третий раз? Он остался бы молодым, богатым и неотомщенным. Да и описание третьей игры не дает оснований считать, что какие-то потусторонние силы действительно хоть как-то воздействовали на Германна.
Наиболее логичным представляется третий вариант. Во-первых, на похоронах он упал, и не просто упал, а «грохнулся об земь». Он даже не мог сам встать: «Его подняли». Логично предположить, что такое падение могло привести к сотрясению мозга. Во-вторых, Германн – человек непьющий. В день похорон он необычно много выпил, а проснувшись среди ночи, увидел призрак графини. Обедали в то время довольно поздно, ложились спать еще позднее. К трем часам ночи Германн не мог протрезветь. В то же время он все время думал о трех картах, о графине. Не нами придумано выражение «почудилось спьяну». (Вспомним и о ситуации с гробовщиком). В-третьих, когда призрак графини уходит, Германн слышит, как хлопает дверь. Но когда он приходит в себя, пытается разбудить денщика, который, в отличие от хозяина, привычно пьян, то замечает, что дверь заперта. Хотя он слышал, как кто-то отпирал дверь, звука запирающейся двери не было. Очевидно, что это – аргумент в пользу того, что никто и не входил.
Если призрак только померещился Германну, то не было и тайны трех карт
Если призрак только померещился Германну, то не было и тайны трех карт. Да, конечно, Германн выиграл два раза соника, но в играх реализуются и более невероятные случаи. Он не собирался отказываться от своего правила «не рисковать необходимым» и был уверен в успехе. В тот момент, когда Германн понял свою ошибку, он, как это часто свойственно людям, обвинил в этой ошибке не себя – ему проще всего было считать, что во всем виновата старуха графиня. Германну кажется, что пиковая дама ему подмигивает, и вместо доброго призрака он начинает верить во второй вариант – в «злого призрака».
Но почему считается, что Германн сошел с ума после проигрыша? Конечно, после этого его безумие стало очевидным для всех. Да, его отправили в Обуховскую больницу, где он действительно перестал отвечать на вопросы и только «бормотал необыкновенно скоро: “Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..”».
Однако вспомним, что и раньше, после той ночи, когда ему привиделась старуха, Германн постоянно думал только о картах – о тройке, семерке и тузе. Они «не выходили из его головы», «все мысли его слились в одну» — воспользоваться тайной, которая якобы ему открылась. Логично предположить, что сумасшествие Германна прошло две стадии. Первая стадия началась днем, во время похорон старухи. Он был в тяжелой депрессии, вызванной сожалениями об упущенном богатстве. Он испытал шок, когда ему показалось, что графиня жива. На Германна вполне могло повлиять падение на землю. Свою роль, безусловно, сыграло неумеренное употребление алкоголя.
Видение призрака графини было уже одним из симптомов сумасшествия. Вспомним, что в «Медном всаднике» Евгений сошел с ума, увидев, что его дом уничтожен наводнением. Когда он подошел к статуе Петра I и произнес слова «Ужо тебе!», ему почудилось, что лицо царя повернулось к нему. Отметим, что «Медный всадник» был написан почти одновременно с «Пиковой дамой» — во время второй болдинской осени.
Когда Германн во время первой игры с Чекалинским ставит на карту 47 тысяч, реакция окружающих вполне предсказуема: «”Он с ума сошел!” – подумал Нарумов». Еще одним признаком ненормальности было поведение Германна во время третьей игры. Может ли человек в трезвом уме и здравой памяти не заметить, какую карту он берет из своей колоды, особенно когда речь идет о ставке в почти 200 тысяч рублей? Перепутать туза и даму может только тот, кто уже не вполне нормален. Шулерство Чекалинского в данном случае исключено – банкомет может подтасовать карту, которую достает из своей колоды, но карты понтера он не знает и подменить не может. При прокидке «направо легла дама, налево туз». Будь у Германна туз, он бы выиграл. Его вторая, окончательная стадия сумасшествия, наступила после проигрыша, отягощенного воображаемым сходством старухи и пиковой дамы.
Такая интерпретация полностью соответствует тексту повести и устраняет все противоречия. Отметим, что в русской литературе есть и другой герой, который проходит две фазы сумасшествия – князь Мышкин. Несомненно, он не вполне нормален и в самом начале романа, а окончательно сходит с ума только после убийства Рогожиным Настасьи Филипповны.
Возникает вопрос – если призрак графини не подсказывал Германну трех верных карт, как ему удалось выиграть две первых игры? На самом деле здесь нет противоречия. Два раза выиграть – не самое невероятное событие. Читателя поражают скорее суммы выигрышей. Выбор же карт — тройки и семерки, возможно, не совсем случаен. Когда Германн еще сомневался в достоверности анекдота о трех картах, он говорил сам себе: «расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!».
Конечно, окончательных выводов о героях Пушкина делать нельзя никому, каждое поколение читателей и исследователей воспринимает их по-своему. Но если эта статья поспособствует более внимательному чтению Пушкина, автор сочтет свою задачу вполне выполненной.
В заключение отмечу, что в моей жизни три карты сыграли маленькую забавную роль. Во время учебы в университете я сдавал зачет на военной кафедре. Одно из заданий было набрать на пульте управления данные для наведения ракеты на цель. Подготовился я плохо, и вместо угла наклона ракеты на табло высветилась последовательность цифр – 37373737. Принимавший зачет молодой лейтенант спросил – что не так, чего не хватает? – Туза, естественно, ответил я. Преподаватель рассмеялся, и я получил зачет. Спасибо Пушкину, он воистину «наше всё».