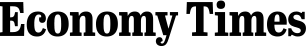Мансур Олсон и #MeToo
ET продолжает публикацию цикла статей научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия ТРАВИНА о работах в области исторической социологии. Почему так сильны «слабые», дискриминируемые меньшинства? У Мансура Олсона имелся ответ на этот вопрос
За последние годы феноменального успеха достигли два движения – «Me Too» и «Black Lives Matter». Оба выступают против насилия, но одно связано с насилием в отношении женщин, другое – в отношении чернокожих. Успех этих движений оборачивается такими изменениями в обществе, о которых лет десять назад невозможно было даже подумать. Рушатся карьеры успешных мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах, а кое-кто даже отправляется за решетку. В Америке сносят памятники историческим деятелям, на которых, казалось бы, эта Америка стоит. В каком-то смысле разрушаются вековые устои общества.
Не будем сейчас давать этическую оценку этим событиям. Не будем рассуждать, хорошо все это или плохо. Попытаемся остаться строго в рамках науки. Попробуем ответить на вопрос, почему сравнительно малым по численности группам населения удается нанести удар по таким ценностям, которые недавно еще представлялись нерушимыми и интерпретировались как присущие всем людям (по крайней мере, в США). И, как ни странно, для ответа нам понадобится на минутку уйти в совершенно иную сферу – в экономику, где лоббистские группы борются за свои высокие прибыли.
Допустим, вы являетесь отечественным производителем и хотите оградить рынок от зарубежных конкурентов с помощью высоких таможенных пошлин. То есть осуществить эдакое импортозамещение в собственных интересах. В экономической науке эффективность протекционизма подвергается большому сомнению, но, тем не менее, матерым отечественным производителям часто удавалось пролоббировать если не полный запрет на импорт ряда товаров (как у нас сегодня в отношении продуктов, поставляемых из Евросоюза и Северной Америки), то, по крайней мере, высокие таможенные пошлины. А как только такие пошлины появляются, и импорт дорожает, «наши герои» тут же вздувают цены и кладут себе в карман дополнительные прибыли. Все общество расплачивается за их стремление нажиться и послушно «кушает» сказку про необходимость поддержки отечественного производителя. Почему такое возможно? Почему люди это терпят?
Малая групповщина
На этот вопрос ответил социолог Мансур Олсон в книге «Возвышение и упадок народов» (М.: Новое издательство, 2013). Он описал так называемую «логику коллективных действий». Суть его вывода сводится к тому, что выигрыш, который получают большие группы, отстаивая свои интересы, оказывается довольно мал в расчете на каждого их члена, а вот выигрыш малых групп весьма соблазнителен. В случае с протекционизмом картина такова. Сильно ли мы с вами проигрываем, когда платим высокую цену за сыр, подорожавший из-за протекционизма? Честно говоря, не очень.
Во всяком случае, наш проигрыш не настолько велик, чтоб побудить значительную часть потребителей бросить привычную, любимую работу или отказаться от отдыха, для того чтобы все свои силы отдать борьбе за свободу торговли. Дело кончается тем, что небогатые люди покупают чуть меньше сыра, а богатые платят за него больше, чуть-чуть сокращая свои сбережения. Все, конечно, ворчат и ругают правительство, но такое поведение предпочтительнее борьбы за свои интересы. При этом движения потребителей, как правило, являются не самыми сильными лоббистами по сравнению с бизнесменами, профсоюзами, женщинами, чернокожими, мигрантами, религиозными и сексуальными меньшинствами… А еще надо принять во внимание разнообразных юристов, которые за хорошие деньги помогают «малым» группам отстаивать свои интересы и в итоге сами становятся такой же «малой» группой, получающей выгоду от лоббизма.
«Члены “малых” групп обладают непропорционально большой организационной властью»
Вот здесь мы подступаем к нашей основной теме. «Члены “малых” групп, – пишет Олсон, – обладают непропорционально большой организационной властью для осуществления коллективных действий; эта диспропорция с течением времени в стабильных обществах уменьшается, но не исчезает».
Проще говоря, им есть за что бороться, и выигрыш в случае успеха будет значительным. Для одних групп это торговые прибыли. Для других – возможность отсудить миллионы у «насильника». Для третьих – социальные льготы. Для четвертых – возможность вести нормальный образ жизни без дискриминации со стороны большинства. Ну, а для большинства задача оторвать задницу от дивана и сделать что-то против сплоченного меньшинства оказывается порой нерешаемой. Значительная часть полусонного большинства, не следящая за политическими событиями и экономикой, даже не знает, как сплоченное меньшинство борется за свои права.
Распределительные коалиции
Таким образом, реальная картина современного общества – это не столько свободный рынок, на котором все получают доходы пропорционально своему вкладу, сколько совокупность распределительных коалиций, вытягивающих из рынка все, что дают им их коллективные лоббистские действия.
Именно поэтому профсоюзы в свое время добивались повышения зарплаты, а бизнесмены – таможенных пошлин, оборачивавшихся ростом цен. Именно поэтому в свое время возникли системы социального обеспечения, съедающие значительную долю общественного пирога. Правда, по мнению Олсона, «привычный образ нарезания общественного пирога в действительности не схватывает сути ситуации; лучше, наверное, представить себе борцов, дерущихся за содержимое магазина фарфоровых изделий». Автор «логики коллективных действий» написал эту фразу много лет назад, но именно сегодня становится особенно актуальна проблема ожесточенной драки в посудной лавке, после которой может вообще не остаться никакой посуды.
Правда, цивилизованные общества научились более или менее решать эту проблему. Именно поэтому Олсон отметил, что со временем диспропорции уменьшаются. «Малые» группы добиваются своего, но они не могут перетягивать на себя ресурсы общества бесконечно. Когда возникает угроза перебить большую часть посуды, включаются механизмы, останавливающие аппетиты «малых» групп. Завоеванные права и льготы обычно у них остаются, но дальше определенной границы им не удается продвинуться. Таким образом, как «Me Too», так и «Black Lives Matter», скорее всего, добьются многого, однако Америку не разрушат. Лидеры движений станут богатыми, влиятельными людьми, однако мир не будет стоять перед ними на коленях, вечно вымаливая прощение за свои прегрешения.
Чудо возвышения
На этом можно было бы закончить рассказ о «логике коллективных действий», но вспомним, что книга Олсона называется «Возвышение и упадок народов». Главное для автора (и для меня тоже) – объяснить с помощью этой теории, почему время от времени в тех или иных странах возникает что-то вроде экономического чуда. Если теория Олсона верна, то получается, что «чем дольше демократические страны обладают свободой организации при отсутствии потрясений или вторжений, тем более они будут страдать от подавляющих их экономический рост организаций и сговоров. Это помогает объяснить, почему у Великобритании – великой страны с самым продолжительным иммунитетом к диктатуре, вторжениям и революциям – были в этом столетии (ХХ веке. – Д.Т.) более низкие темпы экономического роста, чем у других крупных развитых демократических стран». И «если данная аргументация корректна, то можно заключить, что страны, распределительные коалиции которых были ослаблены или устранены тоталитарным режимом или иностранной оккупацией, должны расти относительно быстро после установления в них свободного и стабильного правового порядка. Этим можно объяснить “экономическое чудо”, которое пережили государства, потерпевшие поражение во Второй мировой войне, и прежде всего Япония и Западная Германия».
Если вдруг представить себе совершенно невозможную ситуацию возникновения тоталитарного режима Трампа в США, то он бы, наверное, быстро подавил движения «Me Too» и «Black Lives Matter», а за компанию и целый ряд других. Правда, для достижения «экономического чуда» Трампу надо было бы еще справиться с протекционистами, но вот это он вряд ли готов был бы сделать.
Впрочем, не будем уходить в фантастику. Вернемся к Олсону. На мой взгляд, его теория верна, но недостаточна для объяснения современного развития. В реальности на возвышение народов действуют многие факторы, и может так оказаться, что, скажем, тоталитарный режим разрушил старые распределительные коалиции, но не смог воспрепятствовать появлению новых. Скажем, в сегодняшней России не сформировалось сильных независимых профсоюзов, способных бороться за высокую зарплату, однако лоббистские возможности олигархов весьма велики. Некоторые субъекты федерации (в том числе созданные на этнической основе) слабы и потому бедны, а в некоторые другие из Москвы перекачиваются значительные ресурсы, поскольку так проще поддерживать в них порядок.
Примерно так же можно оценить роль теории Мансура Олсона в объяснении событий, происходящих сегодня в Америке. «Логика коллективных действий» не может ответить на все вопросы, но на некоторые дает убедительный ответ.