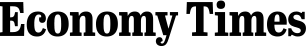Татьяна Клячко: «Мы уходим из Болонской системы по-английски для того, чтобы остаться»
Как исключение России из Болонского процесса повлияет на российскую систему высшего образования? Что это означает для студентов, экономики, страны? Об этом директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО рассказала корреспонденту ET Ирине МЕРКУЛОВОЙ.

– Объявлено о выходе России из Болонской системы, единого образовательного пространства, в которое входят высшие учебные заведения разных стран. Что это значит для российского высшего образования?
– В середине апреля сами страны Евросоюза заявили о том, что они исключают Россию из Болонского процесса…
Я не думаю, что это верная политика. Если ты учишь молодежь, ты имеешь на нее влияние, если не учишь молодежь – не имеешь на нее влияния. То, что делают европейцы, и то, что делаем мы сейчас, я бы определила как исключительно эмоциональную реакцию без рациональных мотивов.
Но при всей эмоциональности в действиях европейцев есть определенная логика: Болонский процесс был запущен для обслуживания глобальной экономики, и то, что европейцы исключают нас, следует за их действиями по фактическому исключению России из глобальной экономики. Покинув Болонский процесс, Россия перестанет быть частью глобализованного мира (по крайней мере его наиболее развитой части) и лишится многого, в том числе и образовательных связей со странами Азии и Латинской Америки.
Что такое Болонская система и зачем она была создана? Многие говорят исключительно о бакалавриате и магистратуре, но это – вообще не главное. То, что у нас сохранился специалитет, в общественном сознании даже не присутствует. Каждый год примерно четверть ребят поступает именно в специалитет, на пятилетнюю подготовку. Медицина, архитектура, тяжелое машиностроение, сложные инженерно-технические специальности, как правило, это специалитет. Кроме того, у нас есть так называемая интегрированная магистратура, когда человек сразу поступает фактически на 6 лет обучения. Это те программы, которые в советских вузах преподавались 5 с половиной лет. Ну, 5 с половиной – так будет 6. Нужно вам больше специалитета? Никто не мешает, делайте. А вот нужен ли только специалитет – это уже серьезный вопрос.
11 апреля 2022 года Болонская группа объявила о прекращении представительства России во всех структурах Болонского процесса.
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Ведомство планирует переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет. По его словам, отказ от Болонской системы не предполагает упразднения в России бакалавриата и магистратуры.
По словам замглавы Минобрнауки РФ Дмитрия Афанасьева, одним из оснований решения Болонской группы стало то, что руководители высших образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной военной операцией на Украине.
Но вернемся к сути Болонской системы. Европейский союз сначала создал единое пространство товаров и услуг, потом – единый рынок труда. А когда сложился единый рынок труда, потребовалось создать единое пространство образования, чтобы работодатель в любой точке Евросоюза понимал, на что может претендовать выпускник того или иного университета. Поэтому чуть ли не самое главное в Болонской системе – это управление качеством образования.
Если страна присоединяется к Болонской системе, то она должна предпринять весьма сложные и трудоемкие шаги по повышению качества программ своих вузов. В рамках Болоньи есть приложение к диплому (Diploma Supplement). Именно предъявление этого приложения позволяет работодателю понять, на что может претендовать выпускник. Выпускникам университетов по всему миру, вошедших в Болонскую систему, это открывает доступ к хорошим рабочим местам во многих странах, даже если они и не в ЕС.
Другими словами, выпускник вуза, если у него есть такое приложение, получает знак качества. И иностранцы, которые учатся в наших вузах, на этот знак качества очень рассчитывали. Теперь мы себя этой привилегии лишаем. Потом можно будет говорить, что в России лучшее высшее образование в мире, но поверят ли нам? Как говорится, предъявите документ…
Кстати, согласно исследованию Всемирного банка 2020 г. по странам Европы, у нас было очень неплохое высшее образование. И говорить, что наши бакалавры – недоучки, я бы не стала. В Германии – ведущей экономике Евросоюза – среднее число лет обучения в университетах 3,2 года (у них трехлетний бакалавриат), то есть в магистратуре учится небольшая часть выпускников бакалавриата, но никому не приходит в голову считать их бакалавров недоучками. Кстати, в Германии так же, как и в России, раньше была пятилетняя подготовка специалистов.
Болонская система позволяет сэкономить ресурсы и сконцентрироваться на прорывных направлениях
Болонская система позволяет странам-участницам сэкономить ресурсы и сконцентрироваться на прорывных направлениях, потому что она строится на академической мобильности студентов и преподавателей. Если у вас есть хороший преподаватель, то либо он может объехать энное количество университетов, прочитав там лекции, и все будут этому рады, либо студенты к нему приедут, и он тоже сможет дать им те знания, ради которых они к нему и приехали.
Естественно, что для плохих преподавателей это вызов, потому «что все едут куда-то вместо того, чтобы слушать меня… Остановить!».
– Для плохих студентов это, кстати, тоже вызов…
– Здесь ситуация, вообще говоря, смешная, потому что выезжало у нас очень мало студентов.
– Я как раз хотела спросить о вовлеченности. Насколько полноценным было участие России в Болонском процессе?
– Мы перенимали лишь некоторые внешние формы, но академическая мобильность у нас не была развита, потому что нет необходимой экономической основы, которая в Евросоюзе давно создана. Великобритания, выйдя из Евросоюза, сразу пострадала от этого, будучи страной, куда приезжает очень много иностранных студентов. Но когда они приезжали из Евросоюза, они могли учиться бесплатно, за деньги Евросоюза, а теперь должны искать средства, и, соответственно, поток сразу снизился.
У нас экономический механизм академического обмена до сих пор не отработан. Только сейчас мы его создаем для внутрироссийской мобильности студентов. Тем не менее обмены шли, опыт взаимодействия российских вузов и университетов других стран нарабатывался, двусторонние и даже многосторонние программы с разными университетами все-таки развивались.
Мы стали делать сетевые университеты, стараться во всяком случае. Вектор взаимного развития был определен.
Концентрация ресурсов в рамках Болонской системы была осуществлена для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность европейских вузов по отношению к американским. Прежде всего, конечно, поднялись вузы Великобритании и Германии.
– Что мы теряем, выходя из Болонского процесса?
– Мы можем потерять значительное число иностранных студентов. К нам приезжали, например, на магистерские программы студенты, уже закончившие бакалавриат. Ты защищаешь магистерскую диссертацию, ты признанный специалист и можешь уже работать либо в России, либо у себя в стране, либо в других странах. Диплом котируется. Приезжали учиться и в бакалавриат – это был основной поток. В последние годы у нас училось примерно 330–350 тысяч иностранных студентов. Это количество заметно сократится. Конечно, это потери как для вузов, так и для регионов, где они расположены: студенты тратят деньги на проживание, питание, бытовые нужды, развлечения и так далее. Россия зарабатывала хорошие деньги – по нашим оценкам, это приблизительно 130–140 миллиардов в год.
Кроме того, из-за демографических проблем нам не хватает молодых специалистов. В 2008 году в российских вузах обучалось 7,5 миллионов человек, сейчас – четыре миллиона. Нам нужна образованная рабочая сила.
В свое время была поставлена задача, чтобы не менее 5% иностранцев-выпускников российских вузов оставались в России.
– Но они же не хотят оставаться…
– Многие очень хотят, особенно выпускники престижных вузов. Среди иностранных студентов доля молодых людей из стран СНГ 53%. В общем, с большим удовольствием они хотели бы здесь работать. И даже из западных стран, особенно дети тех советских или российских граждан, которые в свое время уехали в Германию и во Францию. Получив образование, многие хотели остаться работать в России. Во всяком случае это не были единичные случаи.
–За последние месяцы кое-что изменилось…
– Понимаете, у нас все время в голове, что мы огромная страна, у нас очень большое население. А то, что это население стареет, мы не учитываем: наблюдается дефицит молодежи. Если молодежь приезжает, если она здесь учится, если ей нравится, то, разъезжаясь, она невольно вербует нам следующих студентов и несёт в мир имидж России как страны привлекательной для жизни и образования. Когда мы делали исследование, то поняли вдруг очень интересную вещь – самым сильным каналом привлечения иностранных студентов является сарафанное радио. Сейчас мы можем закрыть себе эту бесплатную рекламу.
И еще очень и очень важный момент – мир обрезает нам доступ к научной информации, научным базам данных, технологической информации, технологиям. И если мы сокращаем для себя возможности академической мобильности, то проблема лишь усугубляется.
У нас до сих пор бытует представление, что в Советском Союзе мы сами разрабатывали все, подчеркну, все наши технологии. Такого не бывает. Как страна, которая не находится на фронтирах технологического развития, мы тоже заимствовали технологии, просто делалось это достаточно скрытым образом. Были опять же разные институты, например, Институт системного анализа в Вене, через которые наши представители получали доступ к этой информации.
Когда вы отгораживаетесь от мира, то любая созданная вами система может быть названа уникальной
А вообще, та база, которая создавалась в 1920-1930-е годы, формировалась американскими, британскими и прочими иностранными специалистами. Так, ГАЗ, который до сих пор работает – это же сначала была концессия Форда. Поэтому если мы хотим быстро развиваться, то обрубать источники информации о науке, о технологии ни в коем случае нельзя. Соответственно, в рамках того же Болонского процесса нужно, чтобы к нам приезжали китайские студенты, чтобы наши ребята ездили учиться в Китай. Потому что там вызревает достаточна сильная система образования, но главное, они имеют доступ к научным базам данных, их университеты работают с новейшими технологиями. Схожие процессы – в Индии, Казахстане. Все это ни в коем случае нельзя перекрывать. Я думаю, что через некоторое время это дойдет до соответствующих инстанций, во всяком случае, признаки понимания уже видны. Поэтому мы уходим из Болонской системы по-английски для того, чтобы остаться.
– Но уже сейчас речь идет о создании некой уникальной российской системы высшего образования. Это вообще возможно?
– Когда вы отгораживаетесь от мира, то любая созданная вами система может быть названа уникальной. Думаю, все закончится тем, что будет увеличен прием в специалитет. При этом мы опять будем наращивать инженерно-техническую подготовку. Вопрос состоит только в том, что подготовка-то подготовкой, а вот кто будет создавать современные предприятия для того, чтобы эти ребята находили там себе рабочие места? Современное предприятие – это сложнейшая структура с очень сложным менеджментом. И главное, должно быть массовое производство для того, чтобы это было выгодно. Поэтому здесь есть очень большие вопросы. И потом, если ты не знаешь ничего про современные технологии, то как ты будешь готовить современных инженеров? Как ты будешь готовить современных врачей, чтобы они знали про современные медицинские технологии, лекарства, даже про то, как защищаться от этих новых вирусов – мир уже показал во время пандемии, что он не очень с этим разбирается. Сейчас это будут искать, сейчас на эту тему будут проводить серьезные исследования. Соответственно, надо бы знать, что выяснят, что найдут.
Болонская система – это не про образование, это про современную экономику, про то, что молодежь, которая пришла учиться в бакалавриат, получает некоторый комплекс знаний, а потом думает: «Мне вообще для успешности на рынке труда, для карьеры надо идти по этой линии, по этой или еще по какой-то линии?». И добирает знания. Когда министр говорит, что экономист не может пойти в энергомашиностроение…
– А почему, например, экономист не может пойти в энергомашиностроение? Почему бакалаврам хотят запретить поступать в магистратуру не по специальности?
– Во-первых, не все поступают. А вот если ты окончил бакалавриат как физик и идешь в энергомашиностроение, то, может быть, это и интересно. Как мне в свое время говорили, что самые лучшие инженеры-нефтяники – это не те, кто получил базовое инженерное образование в нефтяной сфере, а математики. Компетенции, которые они получили как математики, позволяют им осваивать современные технологии на очень высоком уровне с понимаем того, как это можно развивать. Если экономист добирает управленческих компетенций – прекрасно.
– Что в этом плохого? Зачем «наводить порядок в магистратуре»?
– Мы часто вспоминаем Салтыкова-Щедрина, который сказал, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Поэтому крик криком, а обед по расписанию. Надо только этот эмоциональный взрыв пережить.
Но нынешнее обсуждение проблемы будущего высшего образования, наверное, даже полезно. Наше общество пока не до конца понимает, что такое Болонский процесс в принципе. При этом не всегда в этой дискуссии слышны профессионалы.
Один уважаемый мной экономист объяснял, почему вузы хотят пятилетней подготовки – они тогда якобы получат больше денег. Но, надо сказать, им это только кажется. Вот у нас заканчивает столько-то студентов бакалавриат, в магистратуру идет столько-то, и, соответственно, уменьшается этот денежный поток. Ну, во-первых, опять же часть – это специалитет. Поэтому к специалитету мы добавляем тех, которые учатся в магистратуре. Во-вторых, здесь все-таки учатся два года, а не один. В-третьих, нормативы финансирования магистерских программ выше, чем нормативы финансирования специалитетов.
При этом сколько денег есть, столько государство тебе и выдаст. Оно их просто по-другому поделит. И когда ты, как экономист, вроде бы подтверждаешь преподавателям вузов, что если произойдет переход на пятилетнюю подготовку, то высшие учебные заведения получат больше денег, то ты их вводишь в заблуждение. На самом деле просто произойдет перераспределение внутри системы высшего образования.
Что еще очень важно понимать. Почему магистратура часто воспринимается в штыки очень многими преподавателями? А потому что от тебя после бакалавриата могут уйти в другой вуз. И они тебе или вузу фактически, так сказать, такую меточку не очень хорошую выдают: «ты (или вуз) неинтересен», для карьеры надо другое. Это очень важно.
– Кажется, что в России высшее образование становится менее доступным, мы видим последовательное сокращение бюджетных мест.
– Но в последние два года число бюджетных мест растет.
– В топовых вузах?
– Не только, прежде всего, в региональных. И будет расти. Если раньше говорилось о том, что бюджетные места охватывают примерно 50% от выпуска из школ, то теперь они будут охватывать 65% от выпуска из школ. Да, в последние годы бюджетный прием, как многим кажется, стал меньше и начался разворот в сторону среднего профессионального образования. Эта тенденция есть. Но мы мало говорим о том, сколько выпускников системы СПО после ее окончания идут в вузы.
Нас ждет структурная трансформация экономики, и высшая школа, хотим мы этого или нет, ее отразит
В целом мы наблюдаем очень большой поток молодёжи в высшую школу. Ведь раньше – когда я это рассказываю, на меня смотрят безумными глазами – в 1980-е годы в Советском Союзе из 100 детей, пришедших в первый класс, до вуза сразу после школы доходило 8–10. Сейчас доходит 43. Представляете, что это такое для системы? Это огромное социальное изменение. То же самое происходит в большинстве стран: это подспудно готовит общество к переходу в очередную новую экономику, который уже не за горами. И поток молодежи в вузы отражает эту тенденцию.
Надо понимать, что система высшего образования – это очень сложный механизм, который отображает все многообразие проблем экономики и социальной сферы. Наблюдая за этой системой, можно очень многое понять о происходящих в нашей стране процессах. Нас ждет структурная трансформация экономики, и высшая школа, хотим мы этого или нет, ее отразит. Возможно, именно это отражение и будет названо «национальной российской системой высшего образования».