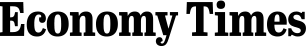«Как мы шли, до чего дошли…»
Свою оценку развития российской рыночной экономики на семинаре в ВШЭ представили авторы доклада «Взгляд на российскую экономическую трансформацию» – начальник отдела отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир БЕССОНОВ и заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Экспертного института НИУ ВШЭ Эдуард БАРАНОВ.
«Переходный период уже более или менее закончился. Мы отошли на достаточное расстояние для того, чтобы увидеть на расстоянии слона, а не прыщик на его теле», – образно описал цель доклада Владимир Бессонов.
Основной тезис исследования: трансформация определила долгосрочные тенденции российской экономической динамики, которые характерны для переходных процессов. «То, что с нами произошло за последнюю четверть века, на качественном уровне до начала этого процесса было описано в математической работе Владимира Арнольда «Теория катастроф» (выдающийся советский и российский математик – ЕТ). Исходя из аналогий с тем, как ведут себя системы самой разной природы, он попутно написал, чего нам следует ждать», – отметил Бессонов.
Для переходных процессов характерна сначала фаза ухудшения (в экономических терминах это «трансформационный спад»), потом фаза улучшения (восстановительный подъем), затем – фаза затухания переходного процесса (его завершения в первом приближении, иногда говорят о «новой нормальности») – именно в этой фазе, по мнению авторов доклада, сейчас находится российская экономика. На эти долгосрочные тенденции – ухудшение-улучшение-затухание – наложились последствия менее масштабных событий, а именно: негативные – «циклические» кризисы, обусловленные экзогенными шоками, и позитивное – резкое улучшение условий внешней торговли.
«Основная динамика российского ВВП определяется переходным процессом, а пунктиром «обрезаны» влияния этих трех негативных событий. То есть мы можем говорить о длительном и мощном процессе и влиянии на него процессов менее длительных и мощных. Можно говорить о двух уровнях спада и о двух уровнях восстановительных подъемов», – поясняет Бессонов.
Хронология переходного процесса всем известна: докризисный пик – это рубеж 1980 и 1990-хх гг. (часто говорят о 1989 г.), кульминация темпов приходится на 1993 и 1994 гг., нижняя точка трансформационного кризиса – 1996-1998 гг., затем идет восстановительный подъем или межкризисное десятилетие (осень 1998 – осень 2008). Авторы обращают внимание на то, что после 2008 г. идет затухание переходного процесса, о чем говорит снижение темпов экономического роста, инфляции, промышленного производства. Качественно та же ситуация наблюдается в таких отраслях, как сельское хозяйство (с небольшими поправками), строительство, инвестиции, грузооборот транспорта и т.д.
«Все важнейшие показатели ведут себя примерно одинаково. При этом трансформационный спад и восстановительный подъем не были обусловлены традиционными факторами производства», – говорит Бессонов. Он уточняет, что если убрать вклад факторов производства, то именно остаток будет иметь доминирующее значение и определит основное направление трансформационной динамики.
Переходный процесс в первом приближении завершился
Переходный процесс в первом приближении завершился, отмечает Бессонов. Естественным следствием его затухания можно считать значительное снижение темпов экономического роста в последние годы. Количественные характеристики «новой нормальности» (темпы экономического роста, темпы инфляции и т.п.) соответствуют ситуации до начала экономической трансформации, т.е. «старой нормальности» и типичны для стабильных, непереходных, экономик.
Российская экономика изменилась, скорее, качественно, чем количественно
Даже если условия внешней торговли вновь станут благоприятными, как и в последние годы межкризисного десятилетия, у нас нет оснований ожидать возобновления былых темпов экономического роста, полагает экономист, поскольку они были обусловлены интенсивным восстановительным подъемом после глубокого трансформационного спада. «Таким образом, масштаб экономики изменился совсем не сильно: за период с 1990 г. (последнего года до начала интенсивного трансформационного спада) до 2014 г. российский ВВП вырос всего на 19%, т.е. среднегодовые темпы прироста составили лишь 0,7% , – уточняет Бессонов. По его словам, российская экономика изменилась, скорее, качественно, чем количественно: от плановой она перешла к рыночной, и в ней произошли масштабные институциональные перемены и структурные сдвиги.
Состояние российской экономики накануне начала процесса ее трансформации характеризовалось определенными диспропорциями, такими, как искажения ценовых пропорций (дешевое сырье, дорогая конечная продукция), неконкурентоспособность конечной продукции, гипертрофированный ВПК, гипертрофированные инвестиции в основной капитал, недоразвитый сектор производства потребительских товаров и услуг. Ликвидация этих диспропорций считалась основной целью реформ. «Кажущийся парадокс состоит в том, что при переходе к рынку сырьевой характер экономики усугубился – на единицу продукции добывающих отраслей мы стали производить меньше продукции обрабатывающих отраслей. Это не соответствовало ожиданиям», – говорит Бессонов. Причина этого, на его взгляд, состоит в том, производителям сырья стали доступны внешние рынки, а производители конечной продукции столкнулись с конкуренцией на внутреннем рынке, в результате чего произошел отказ от неконкурентоспособной конечной продукции, сырье относительно подорожало, а конечная продукция – подешевела. Экономист считает это позитивным результатом трансформации – экономика избавилась от «шлаков», произошел отказ от гипертрофированного инвестирования:
«Сырье, которое высвободилось в результате сворачивания производств неконкурентоспособной конечной продукции, позволило нам импортировать потребительские и инвестиционные товары». Вследствие этого произошел резкий рост благосостояния, оборот розничной торговли вырос в три раза. Эти эффекты Бессонов называет «трансформационным бонусом», они, в свою, очередь, привели к росту уровня электоральной поддержки власти населением.
Бессонов отмечает, что рост благосостояния, индикатором которого является резкое увеличение оборота розничной торговли и реальных располагаемых денежных доходов населения происходил в те годы, когда наблюдался рост экспорта и импорта. Еще одним трансформационным бонусом стал отказ от скрытого субсидирования стран СЭВ и бывших союзных республик.
К минусам трансформационного процесса авторы исследования относят тот факт, что исправление одних диспропорций сопровождалось возникновением других: «В начале переходного периода была ситуация автаркии, а к его середине на внутреннем российском рынке была гипертрофированная доля импортируемой продукции».
Потенциал восстановительного подъема в российской экономике представляется в основном исчерпанным. Поэтому источники экономического роста и повышения благосостояния на обозримую перспективу следует связывать с действием других факторов.
Структура экономики стагнирует, а институты – меняются
Профессор департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Борис Кузнецов, оппонировавший докладчику, не согласен с некоторыми выводами исследования. «Как же так: мы не росли (0,7% в год), грубо говоря, мы на уровне 1990-х гг., а благосостояние выросло до небес? Это можно объяснить существенной долей теневых доходов населения, которые не учитываются статистикой, но в таком случае если этот разрыв столь велик, можем ли мы вообще смотреть на динамику росстатовских показателей, на которых основан этот анализ?», — задается вопросом Кузнецов.
Если говорить о трансформации в терминах процессов институциональной и экономической трансформации, то ему кажется недостаточно обоснованным тезис авторов о том, что стагнация или снижение темпов означает завершение или затухание процесса. Он не считает, что российская экономика вошла в «нормальность»: «Да, мы исчерпали какие-то резервы трансформационного спада, но если мы посмотрим на трансформацию в терминах институтов и правил игры, то они у нас меняются. Структура экономики стагнирует, а институты меняются».
Кузнецов отмечает, что все большая и большая часть экономики оказывается завязанной на государство. Кроме того, постепенно в пользу государства меняются правила игры. Во многих случаях государство – уже не равноправный экономический агент, а агент, который играет по особым правилам.
Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников считает, что в исследовании не хватает других ключевых показателей, которые бы описывали структуру трансформации, например, показателей интенсивности структурных сдвигов. По его мнению, не хватает ценностного взгляда на трансформации: «Как мы шли, до чего дошли, и как можно было пойти, с точки зрения какого-нибудь нормального критерия экономической эффективности».
Научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин считает, что работа представляет новый взгляд на процесс перехода к рыночной экономике России. «Я согласен, что рыночная экономика у нас создавалась не только в переходный период, не только в период кризисной трансформации, но и тогда, когда был подъем, она тоже продолжалась – не только в силу высоких нефтяных цен, но и сложившихся дополнительных благоприятных условий». При этом, по словам Ясина, обеспокоенность вызывает то, что по окончании трансформационного спада сложились благоприятные условия для развития рыночной экономики, но одновременно сформировались условия для столкновения политических сил – предпринимателей и бюрократии. «Это имело своим результатом существенное повышение доли государства, и причем этот процесс до сих пор не завершен», – сказал Евгений Ясин.