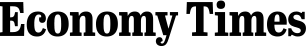Экономическая наука, экономисты и железные дороги
В издательстве Института Гайдара вышла книга Нобелевского лауреата по экономике Жана Тироля «Экономика для общего блага» — сборник статей и эссе, написанных для широкого круга читателей, а не только для экономистов. В книге Тироль объясняет, почему экономика является наукой, почему в области экономики решения, принятые на основе только здравого смысла, могут оказаться ошибочными и почему, выбирая между моралью и наукой, нужно выбирать науку и это будет полезнее для общества.
Что такое экономическая наука?
Тироль понимает экономическую науку в классическом позитивистском ключе. Никакого постмодернизма: экономика это не набор абстрактных теорий, которые мы не можем проверить, а наука об окружающей нас реальности, и её выводы могут быть проверены с помощью инструментов статистики. Среди экономистов могут быть (и есть) разногласия относительно проводимой экономической политики, но, тем не менее, «существует консенсус в отношении того, как следует проводить исследования» и в отношении того, что считать хорошим, качественным исследованием, а что – нет.
Важный аспект, на который обращает внимание Тироль – это контринтуитивность многих положений науки. Он пишет: «Экономика является непростой, но при этом доступной дисциплиной, позволяющей находить ответы на многие вопросы. Она требует больших усилий потому, что наша интуиция часто играет с нами злые шутки… Первый ответ, который приходит на ум, когда мы думаем об экономических проблемах, не всегда правильный. Наши стремления получить «нужный» для нас результат и связанные с этим эмоции подчас препятствуют поиску истины». Научный метод – единственный способ получить объективное знание в тех случаях, когда нам необходимо «очистить» наш взгляд на проблему от всего человеческого, слишком человеческого.
Перечисляя ряд известных примеров научных исследований, в частности таких, которые касаются продажи человеческих органов (об этом есть целый параграф в главе «Моральные ограничения рынка»), проституции, квот на выброс загрязняющих веществ и тому подобных, эмоционально не нейтральных сюжетов, Тироль отмечает конфликт между моральным чувством и научной рациональностью. Например, «некоторые до сих пор считают безнравственной мысль о том, что фирма может получить право на загрязнение, просто заплатив за него». Тироль настаивает на том, что чувство негодования, которое может вызывать индивидуальное поведение того или иного рыночного актора или какие-то аспекты организации нашего общества является плохим советчиком.
Ещё один пример, который приводит Тироль это известное заблуждение, формулируемое обычно так: жизнь не имеет цены – она бесценна. Но наш отказ рассматривать человеческую жизнь в категориях цены «приводит к росту смертности». Кажущийся цинизм количественных подходов, подытоживает автор, «шокирует общество, которое не готово их воспринять». Притом, что по его мнению, «в экономической сфере благими намерениями вымощена дорога в ад».
Рынок и государство
Тироль формулирует свою позицию по поводу государства и рынка так: они являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими, рынку, чтобы оставаться конкурентным необходимы государство, конкуренция и государственная защита конкуренции. Роль государства, с точки зрения Тироля, – «устанавливать правила игры», но «не подменять собою рынок». Оно должно «обеспечивать здоровую конкуренцию», и при этом вмешиваться в случаях провалов рынка.
Во многих случаях рецепты, которые предлагает Тироль выглядят этатистскими. Либертарианцам Тироль покажется слишком левым. Но и левым многое в его тезисах может не понравится.
Будучи интеллектуально честным исследователем, он делает оговорки, ставящие под сомнение однозначность его собственных тезисов. Даже если он приводит аргументы в защиту какого-то регулирования, которое сделает чью-то жизнь лучше, он тут же оговаривается, что одновременно с этим, за то или иное улучшение расплатятся ухудшением уровня жизни некоторые категории людей.
Например, анализируя повышение минимального размера оплаты труда во Франции (у них это называется СМИК), Тироль отмечает, что это решение увеличило доходы самых низкооплачиваемых работников. Однако не следует забывать, что «это привело к росту безработицы среди тех, кто обладал квалификацией, позволяющей претендовать на заработную плату на уровне СМИК и ниже её. Такие безработные теряют не только свой человеческий капитал и часть социального окружения, но и своё достоинство».
Ещё один пример – это распространённые во Франции ограничения на открытие больших сетевых магазинов (и, соответственно, поддержка малых магазинов). В целом Тироль поддерживает их, но делает оговорку, что ему, вполне обеспеченному человеку, живущему в хорошем районе, это решение обеспечивает выигрыш (много маленьких магазинчиков рядом с домом), но за это заплатили своим благосостоянием более бедные сограждане, которые вынуждены тратить больше денег на те же продукты, которые в сетевых магазинах стоили бы дешевле. В итоге подобная поддержка зачастую означает, что потери в благосостоянии более бедных слоев в сумме может быть существенно выше, чем выигрыш более богатых.
Тироль защищает те виды регулирования, которые ему кажутся правильными не слепо, а с полным пониманием оборотной стороны медали. Иногда такую позицию презрительно критикуют словами Трумэна: «Найдите мне однорукого экономиста». Но, пожалуй, именно в этой критикуемой «двурукости» и есть главная функция экспертного знания.
Отраслевые рынки и государственное регулирование
Много внимания в своём научном творчестве Тироль уделял теории отраслевых рынков и анализу различных форм регулирования. Особенно его интересуют инфраструктурные отрасли, которые принято называть естественно-монопольными.
Реформы в этих секторах стали реакцией на неэффективное управление, пишет Тироль. Но реформировать подобные сектора экономики непросто. Акционеры, менеджеры и сотрудники подобных монополий часто стремятся предотвратить или ограничить реформы. И в этом плохая новость для национальной экономики. Но есть и хорошая: иногда группы интересов, представляющие коалиции пользователей услуг монополий и/или инфраструктурных отраслей, начинают настаивать на либерализации рынков. Они преследуют, разумеется, свои интересны, но попутно и одновременно способствуют «повышению социального благосостояния» в экономике в целом. Именно поэтому в Европе прирост эффективности был получен за счёт приватизации. «Компании, контролируемые государством, — пишет Тироль, — редко производят высококачественные услуги по низкой цене».
Помимо опыта Европы, Тироль касается и опыта США, в частности рассматривает радикальную либерализацию американских железных дорог после акта Стаггерса (когда было отменено множество регуляторных ограничений). Итоги реализации акта Стаггерса Тироль оценивает так: «Затраты и цены упали, производительность, определяемая как количество тонно-километров на одного работника, выросла в 4,5 раза, качество услуг улучшилось, и железнодорожные грузоперевозки вернули себе долю рынка в ситуации, когда им прочили исчезновение».
Пик популярности идей KPI в мире пришёлся на конец 1980х-начало 1990-х, сегодня экономическая наука скептически относится к этому институту
Любопытно и то, что пишет Тироль о европейском железнодорожном транспорте. Он подчёркивает, что сфера железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок различаются очень сильно, можно даже сказать, что в этих сферах реализованы полярно противоположные модели организации работы отрасли. Тироль пишет, что «в европейском железнодорожном секторе некоторые виды деятельности, такие как грузовые перевозки, в настоящее время подчинены классической рыночной конкуренции», тогда как, например, пригородные пассажирские перевозки находятся «в монопольном положении». В последнем случае, впрочем, иногда, это конкуренция «за рынок». То есть, в некотором смысле – это периодически оспариваемая монополия. Ну или, во всяком случае, модель, где теоретически есть возможность этого «оспаривания».
Касается Тироль и модной темы стимулирующих контрактов. Часто кажется, что если государство задаст некие правильные стимулы, например, с помощью KPI, то компания будет управляться лучше. Пик популярности идей KPI в мире пришёлся на конец 1980х-начало 1990-х, сегодня экономическая наука скептически относится к этому институту, но в России, куда экономическая мода доходит с опозданием эта тема очень популярна.
Рассуждая о стимулирующих контрактах, Тироль делает важную оговорку о том, что если независимость регулирующего органа не может быть гарантирована, то сам риск так называемого «захвата регуляторов» радикально меняет всю парадигму и представления об эффективности подобного подхода. Итогом становится отсутствие контроля за монополистом при сохранении видимости его регулирования.
Книга Тироля интересна не столько какими-то конкретными результатами применительно к конкретным отраслям, сколько тем, что она представляет собой интересный обзор того, что такое экономическая наука сегодня, чем занимаются исследователи и как совмещается предмет и объект наук социальных с методами (в некоторой степени) наук естественных.
Автор – эксперт Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ