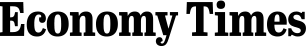«Ради общей рыночной цели»
ET представляет ключевые фрагменты лекции «Социальный капитал и развитие» Леонида ПОЛИЩУКА, профессора факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Цикл лекций «Экономика общественного выбора» организован фондом Егора Гайдара и Inliberty.
Социальный капитал – это способность людей к сотрудничеству, кооперации, совместным действиям ради общей цели. Почему в рыночной экономике такая способность столь важна? Ведь принято считать, что рыночная экономика построена на индивидуализме – в ее основе лежат личные права и свободы, в том числе право частной собственности, включающее возможность распоряжаться активами в личных интересах. Комбинация этих прав и свобод – важнейшая предпосылка эффективности рыночной экономики: вы используете имеющиеся у вас в собственности активы наилучшим образом, и в результате общество в целом оптимально распоряжается своими ресурсами.
Однако личная и общественная рациональность совпадают лишь в той мере, в какой индивид в полном объеме получает общественную выгоду от своих решений и полностью несет связанные с этим общественные издержки. Иногда ваши решения приносят выгоду вам, но создают издержки для окружающих, а вы игнорируете эти чужие издержки. Такие ситуации называются «провалами рынка», и тогда между частной выгодой и общественными интересами возникает разрыв. Именно в таких случаях способность людей к координации, к совместным действиям оказывается очень важной.
Игра в «Общественное благо»
Провалы рынка возникают тогда, когда частная инициатива приводит к неэффективным последствиям с точки зрения общества. Каждый, кто хоть немного изучал экономику, имеет представление о том, где, когда и почему возникают провалы рынка. Классический пример – это общественные блага, которые могут потребляться одновременно многими людьми без ущерба друг для друга. Примеры общественных благ – чистый воздух, транспортная инфраструктура, безопасность, правопорядок, национальная оборона и т.д. Когда речь заходит об участии в создании общественных благ, если главным стимулом к этому является только личная выгода, то общественных благ оказывается очень мало. В этом случае возникает хорошо известная опасность так называемого «бесплатного проезда», или «проблема безбилетника» – вы имеете доступ к общественному благу вне зависимости оттого, участвовали вы или нет в его создании. Разумеется, это подрывает стимулы тратить ваши личные ресурсы на создание общественных благ, а если вы их и тратите, то лишь в той мере, в какой вы лично выигрываете от общественного блага. В итоге страдает общество, поскольку общественных благ оказывается слишком мало.
Проблема хорошо иллюстрируется популярной в экспериментальной экономике игрой «Общественное благо». Есть двое участников, каждому из которых организатор игры дает по одной тысяче рублей. Какую-то часть из этой суммы или всю целиком можно пожертвовать в общий котел. Деньги, которые попадают в общий котел, увеличиваются в полтора раза и после этого поровну делятся между участниками. Оптимальным в этом случае – и для общества, и для участников – является решение пожертвовать все, что у них есть, потому что в таком случае в общем котле оказывается три тысячи рублей, а каждый получает по полторы тысячи. Но несмотря на эту очевидную выгоду, если вы оцениваете проблему с собственной точки зрения, то вне зависимости от того, что делает ваш партнер, для вас оптимально оставить все деньги себе. Каждый из игроков, таким образом, остается с одной тысячей, и увеличить выигрыш в полтора раза не получится. Налицо провал рынка в чистой форме, так называемая «дилемма заключенного». Если двое участников этой воображаемой игры способны к координации, способны к совместным действиям в общих целях, то в этом случае они могут получить значительный выигрыш.
Обычно координация в экономике достигается с участием государства. С чисто экономической точки зрения, задача государства – это предотвращение провалов рынка. Для того, чтобы предотвратить провалы рынка, государство подавляет личную инициативу и ограничивает свободу. В частности, государство принуждает к созданию общественных благ при помощи налогов. Но хорошо известно, что государство – весьма несовершенный механизм координации, присутствие государства в экономике связано с многочисленными издержками – техническими, административными, политическими, информационными (поскольку государство не обладает информацией, которая распределена между экономическими агентами). Чтобы сократить такие издержки, участие государства в экономике желательно насколько это возможно ограничить.
Люди договариваются, потому что они осознали свой личный интерес в совместных действиях
Знаменитый экономист Рональд Коуз в своей столь же знаменитой теореме обратил внимание на то, что альтернативой принуждению может быть добровольная координация – люди просто договариваются друг с другом о том, чтобы действовать сообща, и в результате этих совместных действий добиваться гораздо большего. Что является стимулом к договоренности? Очень просто: договоренность сулит каждому из участников значительный личный выигрыш. Люди договариваются, потому что они осознали свой личный интерес в совместных действиях. Если в обществе есть способность к подобного рода координации, то никакого принуждения просто не понадобится. Однако в теореме Коуза есть важная оговорка: такая договоренность возможна лишь в том случае, если связанные с ней транзакционные издержки невелики. В противном случае договоренность остается абстрактной возможностью, которая не реализуется на практике.
В чем же состоят транзакционные издержки? Люди должны уважать взаимные интересы, доверять друг другу, быть уверенными в том, что самоограничения, на которые они идут, будут возмещены при реализации договоренности. Если такие транзакционные издержки невелики, то это и означает, что в обществе имеется социальный капитал. Мы можем утверждать, что социальный капитал – это общественный ресурс, позволяющий воспользоваться выгодами кооперации по Коузу.
Социальный капитал и доверие
На всякий случай обращаю внимание на разницу между социальным и человеческим капиталом. Человеческий капитал – это ресурсы отдельно взятого индивида – способности, знания, состояние здоровья, все то, что позволяет индивиду добиваться личного успеха в рыночной среде. Социальный капитал – это характеристика не индивида, а сообществ – способность к совместным действиям ради общей цели.
Социальный капитал часто связывается с триадой «доверие — нормы и ценности — социальные коммуникации и сети». Доверие позволяет заключать соглашения друг с другом и быть при этом разумно уверенными, что принятые обязательства будут выполнены. Нормы и ценности – это представления людей о добре и зле, о том, что допустимо, а что – нет, что аморально, а что возможно. Для реализации договоренностей по Коузу нужны так называемые просоциальные ценности, когда люди принимают во внимание не только свои интересы, но и интересы окружающих, в результате чего выигрывают все участники. Наконец, социальные коммуникации и цели – это возможность обмена информацией, которая имеет принципиальное значение для достижения и реализации договоренностей.
Исследования социального капитала в значительной степени – это эмпирические исследования. Как можно измерить социальный капитал? Нормы, ценности, установки, уровень доверия – выявляются опросами. Наиболее известный источник данных для межнациональных сравнений социального капитала – система опросов World Values Survey (всемирные опросы ценностей, которые проводятся каждые пять лет по стандартной методике). Есть похожий European Social Survey, который проводится чаще, и Россия тоже охвачена им. Эти системы инициированы разными учеными, которые имеют разное представление о социальном капитале. В России в последнее десятилетие проводится много собственных эмпирических исследований по измерению социального капитала.
Помимо опросов, о запасах социального капитала можно составить представление, наблюдая за поведением людей. Некоторые считают, что это более надежный источник информации, потому что социологические опросы подвержены искажениям. Можно получить представление о предпочтениях людей, наблюдая за их поведением в различных ситуациях: голосование, участие в благотворительных акциях, политической деятельности, членство в общественных организациях и т.д. Располагая различными индикаторами социального капитала, можно попытаться связать их с различными состояниями экономики и общества, и таким образом измерить отдачу на социальный капитал.
Чем больше социальный капитал, тем более высоких результатов добиваются национальные сборные по футболу
Социальный капитал – это существенный фактор развития стран, регионов, городов. Прежде всего, он повышает эффективность частного сектора. Представьте себе ситуацию, когда люди, вступая в договоренности, в соглашения друг с другом, не прибегают для этого к помощи юристов, не заключают сложные контракты, им достаточно честного слова. Представьте себе, какая колоссальная экономия издержек при этом возникает. От запасов социального капитала зависит также эффективность государственного управления, о чем мы поговорим подробнее. Однако частным сектором и эффективностью государства выгоды социального капитала не ограничиваются: он также влияет на психическое и физическое здоровье населения, удовлетворенность жизнью и множество других показателей социального и экономического успеха, вплоть до достижений национальных сборных в командных видах спорта. Наши исследования показывают, что чем больше социальный капитал, тем при прочих равных условиях более высоких результатов добиваются национальные сборные по футболу.
Как социальный капитал соотносится с государством? Мы уже говорили, что социальный капитал находит применение в частном секторе, способствует обмену информацией, сокращает транзакционные издержки, предотвращает оппортунистическое поведение, и в этом смысле он заменяет государственное регулирование. Действительно, задача госрегулирования – предотвратить провалы рынка, а социальный капитал, по крайней мере, в теории, более или менее сам справляется с этой задачей. Если социальный капитал и государство – это два альтернативных решения проблемы координации в экономике, то можно предположить, что они в определенной мере заменяют друг друга, будучи субститутами. И если так, то можно выдвинуть гипотезу о том, что чем больше в обществе социального капитала, тем в нем меньше государства, просто потому что в таком обществе меньше потребность в государстве.
Но это неверный вывод, и проще всего его опровергнуть, обратив внимание на скандинавские страны. Скандинавия – это мировой лидер по социальному капиталу. Скандинавские страны занимают первые три-четыре позиции, если измерять социальный капитал уровнем доверия. И в то же самое время в скандинавских странах самое большое государство (измеряемое, например, долей государственного бюджета в ВВП) с самыми большими социальными расходами. Тот факт, что одни и те же страны лидируют как с точки зрения размера государства, так и с точки зрения социального капитала, говорит о том, что социальный капитал и государство не следует рассматривать исключительно как субституты.
20 с лишним лет назад Роберт Патнэм опубликовал знаменитую книгу Making Democracy Work («Как заставить демократию работать»). В этой книге рассмотрен кейс Италии. Современная Италия создавалась во второй половине XIX века в войнах за национальное объединение и суверенитет. Поскольку страну буквально сшивали из кусков, она была создана как унитарное государство с очень небольшим уровнем децентрализации (политическая модель Италии была скопирована с Франции). Но со временем стало ясно, что страна очень неоднородна, есть, в частности, очень большие различия между севером и югом Италии. В стране после Второй Мировой войны возникло сильное политическое движение в пользу децентрализации, и такая реформа состоялась в середине 1970-х годов. Значительная часть государственных полномочий была передана от центральной власти на уровень итальянских провинций. При этом ожидалось, что, приблизив власть к народу, можно повысить эффективность государства и общественное благосостояние. Эти ожидания подтвердились на севере, но не оправдались на юге страны – южные регионы проиграли от децентрализации. Положение в этих регионах, оттого что власть перешла из Рима в Палермо, в Неаполь ухудшилось, что противоречило ожиданиям. Эти различия результатов одной и той же реформы Роберт Патнэм связывает с различными запасами социального капитала на севере и юге страны. Почему такие различия возникли – это отдельная тема. Пока же, имея в виду итальянский кейс, давайте поговорим о политической функции социального капитала.
Культурный контроль
Здесь я пересекаюсь с лекцией моего предшественника профессора Рустема Нуреева о том, что государство эффективно в тех случаях, когда оно подотчетно гражданам. Такая подотчетность не гарантирована ничем, кроме политической активности людей. Вне зависимости от того, что записано в Конституции, вне зависимости от того, существуют ли формально выборы, политическая конкуренция и пр., все это может оставаться на бумаге и не иметь никакого реального эффекта, если граждане не участвуют должным образом в том, чтобы поставить государство под свой контроль. Я хочу предложить очень простую метафору, которая, как мне кажется, позволит понять суть проблемы. Экономистам хорошо известна так называемая проблема principal-agent (проблема принципала и агента). Эта проблема возникает всякий раз, когда вы, будучи принципалом, нанимаете кого-то для выполнения определенной работы, будь то ремонт в вашей квартире, лечение вашего зуба, представительство в суде, и пр. Всякий раз возникает важная задача добиться от вашего агента хорошей работы – для этого его нужно должным образом мотивировать и контролировать.
Такая задача трудно разрешима по ряду причин, которые хорошо известны экономистам и практикам. Но еще труднее решить эту задачу в ситуации, когда миллионы людей являются коллективным принципалом, и на этого коллективного принципала должен работать один агент – государство. Проблема трудно разрешима потому, что, во-первых, у людей разные представления о том, что должно делать государство. Во-вторых, потому что ситуация несколько необычна – как правило, принципал контролирует агента, и если недоволен его работой, то разрывает с ним отношения. Если же такая ситуация возникает с государством, которое располагает реальной властью и монополией на принуждение, то в случае, когда вы недовольны работой государства и публично об этом заявляете, к вам могут применить имеющиеся в распоряжении государства санкции.
Я хочу предложить вам взгляд на эффективное государство как на важнейшее общественное благо
Самая же главная проблема, помимо всего сказанного, состоит в том, что принципалов очень много, их миллионы, и каждый из них, взятый в одиночку, не способен эффективно контролировать государство. Такой контроль возможен лишь в том случае, если люди это делают совместно, координировано. Я хочу предложить вам взгляд на эффективное государство как на важнейшее общественное благо. Если мы вспомним, что государство создано для предоставления общественных благ, потому что люди не способны эти блага создать самостоятельно, то супер-общественное благо – эффективное государство – никакое другое «над-государство» не предоставит. Здесь дело сводится к способности общества, людей совместно добиваться подотчетности государства, контролировать работу государства. Если такой способности нет, то общество оказывается в очень большом проигрыше.
Для того чтобы эффективно контролировать работу государства, необходим особый тип социального капитала, который известен под названием «гражданская культура». Это понятие в 1960-е годы было введено в научный оборот американскими социологами Гэбриэлом Алмондом и Сиднеем Вербой. У него есть разные интерпретации, но коротко мы можем определить гражданскую культуру как ощущение личной ответственности за положение дел в обществе, причастности к обществу, чувство того, что вы способны и должны повлиять на происходящее в городе и в стране, и, наконец, но не в последнюю очередь, что вы оцениваете работу государства не тем, что это государство сделало для вас лично, а тем, что это государство сделало для общества. Последнее важно потому, что обязанность, функция и назначение государства — это не ваше личное благосостояние, за которое отвечаете вы сами, а благополучие общества.
При наличии гражданской культуры возобладает равновесие гражданского протеста
Стараясь избегать моделей и чрезмерно сухой теории, я все-таки хочу предложить вам пример, который хорошо иллюстрирует роль гражданской культуры как предпосылки эффективного государственного управления. Это очень простой пример взят из работы Барри Вайнгаста, который как раз иллюстрирует важность гражданской культуры в обеспечении подотчетности государства обществу. Представим себе (очень коротко, не вдаваясь в детали), что государство, если его не контролировать обществом, склонно к экспроприации частного сектора.
Представьте, что общество состоит из двух равновеликих групп, и каждая из них подвергается экспроприации. У людей из групп есть возможность – протестовать (challenge) или покориться (acquiesce). Протест связан с издержками (в Америке есть выражение: «Freedom is not free» – свобода не бесплатна), поэтому при прочих равных условиях лучше не протестовать. Но если ни одна из групп, которые подвергаются экспроприации со стороны государства, не протестует, то экспроприация оказывается успешной. Если хотя бы одна протестует, а вторая – нет, то экспроприация также оказывается успешной, поскольку (примем это предположение) государству достаточно поддержки половины населения, и тогда издержки той группы, которая протестует, оказываются понесенными напрасно. В этой игре нас интересует равновесие. Равновесие – это ситуация, когда ни одному из участников невыгодно отступать от того, что они делают. В этой игре мы видим два равновесия. Одно равновесие (7,7,0 в первой табличке) – это равновесие гражданской культуры, когда люди способны коллективно защищать свои интересы от государства, которое превышает свои полномочия. Есть также равновесие покорности (2,2,8).
Так вот, при наличии в обществе гражданской культуры возобладает первое равновесие – равновесие гражданского протеста. В таком случае посягательства государства на интересы общества не происходит – не потому, что они формально запрещены конституцией, а потому что политики знают: эти попытки окажутся безуспешными, они встретят массированное общественное сопротивление. Но куда интереснее вторая табличка, в которой рассмотрена гипотетическая ситуация «разделяй и властвуй», когда государство посягает лишь на одну из групп. А вторую группу не только не трогает, но и делится с ней частью того, что изъято у первой группы. Тогда, казалось бы, у второй группы есть полный резон не только не протестовать, но и поддерживать такое решение, потому что вторая группа от этого выигрывает. Настоящая гражданская культура реализуется и проявляется в том случае, когда вторая группа удерживается от такого соблазна и протестует, несмотря на то, что сама она в результате действия или бездействия государства выигрывает, а протестует просто потому, что государство не исполняет должным образом свои полномочия перед обществом. Если подобного рода взгляды в обществе достаточно широко распространены, то в таком обществе государство эффективно и подотчетно. Несмотря на то, что политики могут во всех странах во все времена испытывать искушение злоупотребить своими полномочиями, такое общество уверенно и прочно стоит на страже своих интересов.
Еще один интересный раздел экономической теории социального капитала – его связь с размером государства. Уже отмечалось, что имеются основания рассматривать социальный капитал и государство как субституты. Однако представленный выше анализ указывает на то, что социальный капитал и государство могут дополнять друг друга – чем больше социального капитала, тем эффективнее государство и тем более широкие полномочия могут быть ему предоставлены обществом.
Взаимодействие двух указанных эффектов иллюстрируется интригующей картинкой, заимствованной из недавней статьи французских экономистов (Algan, Cahuc, Sangnier), на которой видны два пика социального капитала. По горизонтальной оси мы измеряем социальный капитал, его можно измерять по-разному, картинки оказываются близкими друг к другу. В данном случае используется индекс восприятия коррупции (если заменить его на доверие, картинка получится примерно такой же). А по вертикальной оси мы измеряем долю социальных расходов государства в национальном доходе. Мы наблюдаем страны с низким социальным капиталом и с низкими социальными расходами, например, Турцию. Затем мы видим, как по мере роста социального капитала растут и социальные расходы (Италия, Греция, Польша, Венгрия). Происходит это потому, что рост социального капитала дает гражданам уверенность в том, что налоги, которые надо платить, чтобы финансировать социальные расходы, будут более или менее платиться. Но поскольку в этом обществе все еще достаточно много оппортунистически настроенных индивидов, которые склонны уклоняться от уплаты налогов, если получат такую возможность, и если именно такие индивиды оказываются «медианными избирателями», то спрос на социальные услуги государства оказывается завышенным. Это в некоторой степени объясняет бюджетные кризисы, с которыми столкнулись Италия и Греция. Затем мы наблюдаем некоторое сокращение социальных расходов по мере дальнейшего роста социального капитала, которое связано с тем, что медианный избиратель сейчас тоже становится сознательным налогоплательщиком и понимает, что ему также придется нести это бремя социальных расходов. Он, таким образом, свои аппетиты немного умеряет, и мы видим здесь страны Германию, Люксембург, Канаду, США. Наконец, в заключительной части кривой мы видим скандинавские страны с высоким запасом социального капитала и высокими социальными расходами государства. Приведенный график позволяет судить о том, как образом социальный капитал связан с размером государства.
Я бы хотел обратить ваше внимание на исследование, которое мы с коллегами выполнили несколько лет назад. Мы нашли способ измерить влияние гражданской культуры на эффективность «государства» на несколько неожиданном объекте. Мы анализировали товарищества собственников жилья (ТСЖ) в России, в двух городах – Москве и Перми. ТСЖ – это государство в миниатюре, своего рода «республика на дому», где есть общественные ресурсы, находящиеся в совместном ведении жильцов, есть налоги – это плата за содержание жилого фонда в бюджет ТСЖ, есть исполнительные органы власти (это администрация ТСЖ, управляющая компания) и законодательные органы (совет ТСЖ). Так вот, мы показываем, что при наличии достаточной гражданской культуры среди жильцов ТСЖ эффективны, а в противном случае они работают плохо, и, как правило, так или иначе оказываются захваченными в кавычках, а иногда и буквально – разного рода жуликами, которые нередко выступают в качестве управляющих компаний.
Из двух зол
Еще один любопытный эпизод – это так называемый парадокс социального капитала. Это опять возвращает нас к книге Патнэма об итальянском кейсе. Патнэм утверждает, что на севере и в центре Италии социального капитала, в том числе гражданской культуры, гораздо больше, чем на юге, и связывает это с историческими причинами. Север Италии на протяжении столетий был созвездием городов-республик, которые мы хорошо знаем из истории, там есть большой опыт автономии, прав, свобод и самоуправления. А юг вплоть до освобождения Италии Гарибальди был колонией нормандского королевства. Значит, на севере Италии за столетие накопилось гораздо больше гражданской культуры и социального капитала, чем на юге. Но парадокс заключается в том, что когда один и тот же вопрос задают на севере и на юге Италии, а именно, вопрос о том, довольны ли вы работой провинциальных властей, то, согласно Патнэму, на севере люди отвечают – «более или менее, конечно, неидеально, конечно, все они – бюрократы, жулики, но ничего – жить можно». А на юге люди говорят: «Что вы? Это ужасно. Мы очень недовольны, потому что они мафиози, потому что они не делают то, что они должны делать, потому что безобразно работают провинциальные власти». Но после этого вы задаете другой вопрос: как по-вашему, больше или меньше должно быть государственного контроля в вашей жизни? И, казалось бы, что те, кто довольны, или считают приемлемой работу государства, должны скорее согласиться с его присутствием в их жизни. На самом деле все обстоит совершенно наоборот. На севере люди говорят: да нет, в самый раз, а можно бы и поменьше. А на юге люди говорят: мы не можем доверять друг другу, и нам нужно гораздо больше государства. Дело в том, что в сообществах, бедных социальным капиталом, люди выбирают из двух зол. Первое зло – это неэффективное, хищническое, склонное к злоупотреблениям неподотчетное обществу государство, а второе зло – это окружающие. Выбирая из этих двух зол, люди считают государство меньшим злом. Парадокс социального капитала широко распространен в мире, встречается во многих странах с переходной экономикой, на что указали в своих исследованиях экономисты Ирина Денисова и Екатерина Журавская.
Есть яркие примеры того, как социальный капитал является источником серьезных проблем
Из того что я говорил до сих пор, казалось бы, можно сделать вывод о том, что социальный капитал – это безусловное благо. На самом деле давно известно, что у социального капитала может быть серьезная теневая сторона, так что социальный капитал – это, так сказать, палка о двух концах. Есть очень яркие примеры того, как социальный капитал является источником серьезных проблем, например, в распространении экстремистских идеологий и взглядов. Так, есть интересные работы, которые на цифрах показывают, что социальный капитал в Германии между мировыми войнами, в том числе сетевая деятельность и членство в различных ассоциациях были серьезным фактором прихода к власти нацистов, способствуя распространению нацистской идеологии, расширению электоральной поддержки Гитлера и росту членства в национал-социалистической партии.
Социальный капитал может быть двух разновидностей. Первая из них в литературе известна, как bridging social capital (bridge – мост), это социальный капитал наведения мостов, открытый социальный капитал. Такой социальный капитал создает широкие общественные коалиции, и, как правило, он полезен для развития. В основе открытого социального капитала лежит большой радиус доверия (вы доверяете не только тем людям, которые вам близки, но и вообще окружающим в обществе) и то, что называется универсальной моралью (у вас нет двойной морали: вы с одними и теми же представлениями о том, что можно, и чего нельзя делать, подходите и к людям, вам близким – семейно, социально, этнически, как угодно – и к людям далеким от вас). Альтернатива открытому социальному капиталу – закрытый (bonding, от слова bond – связь, узы) социальный капитал. Это социальный капитал закрытых групп, который поддерживается высоким уровнем доверия внутри группы и недоверием ко всем остальным, а также двойной (ограниченной) моралью: морально себя следует вести только по отношению к близким людям, а по отношению ко всем остальным можно вести себя аморально и безнравственно. Экономические проблемы закрытого социального капитала возникают потому, что он используется для создания клубных благ для небольших сообществ людей, и эти сообщества начинают конкурировать друг с другом, они добиваются преимуществ за счет друг друга. Такого рода конкуренция может оказаться непродуктивной и стать большим тормозом для развития.
Американский политолог Альберт Хиршман в 1970-е годы опубликовал книгу под названием «Exit, Voice, and Loyalty». Из этой книги для нас важна дихотомия, которую сформулировал Хиршман – выбор между voice и exit. Не очень представляю, как это адекватно перевести на русский язык, но суть вот в чем. Представьте, что вы находитесь в какой-то формальной организации, это может быть фирма, некоммерческая организация или университет, может быть город, регион или страна. Представим себе, что у вас есть проблема, связанная с этой организацией. Есть две опции реакции на эти проблемы. Первая – это voice – надо что-то сделать, воспользоваться своими правами, возвысить свой голос для того, чтобы улучшить работу этой организации. А вторая – exit – надо уйти из этой организации. Причем уход может быть буквальным, можно уволиться, можно переехать в другой город, можно эмигрировать из страны. А может быть уход, когда вы просто изолируетесь от того, что происходит в этой организации, вы начинаете ее игнорировать и ищете решения ваших проблем помимо этой организации. И для voice, и для exit может потребоваться социальный капитал. Для того, чтобы voice был эффективен, как я уже сказал, нужна массовая политическая активность, а для этого необходима гражданская культура. А для того, что был возможен коллективный exit, нужен низовой социальный капитал – когда люди, кооперируясь друг с другом, могут создать альтернативу государственным функциям и услугам.
Насколько я могу судить, в России вторая опция часто оказывается наиболее привлекательной и популярной. Это то, что я для себя называю «сделай сам». Граждане недовольны состоянием городской инфраструктуры, состоянием муниципальных благ и услуг. Они исходят при этом из невозможности что-либо сделать, скажем, муниципальными органами власти, и предпочитают искать альтернативные решения. Например, при ликвидации последствий стихийных бедствий и помощи пострадавшим мы наблюдали много примеров такого рода. Часто люди берут охрану порядка в свои руки. Теневая экономика на самом деле – это серьезная альтернатива государству. Нет доверия к государственным институтам, и бизнесы работают друг с другом – на личном доверии, надо заметить. Предпосылка теневой экономики – это «горизонтальное» доверие, без попытки сделать официальную предпринимательскую среду более эффективной.
Еще один пример – это так называемое территориальное и общественное самоуправление – узаконенная, санкционированная государством форма организации для решения проблем, которые на самом деле должны нередко должны решать городские власти. В городах, особенно в больших, и особенно в Москве, в последнее время все более популярно возведение оград, заборов вокруг домов, причем не только вокруг эксклюзивных и элитных комплексов, но и вокруг обычных жилых домов среднего класса в спальных районах. Зачем люди это делают? Они недовольны тем, как охраняется порядок, как выполняются правила парковки. И вместо того, чтобы добиться всего этого от местных властей, они уродуют городскую среду, создают массу проблем себе, воздвигая вокруг своих домов высокие заборы.
Один из ярких примеров такого рода деятельности – это мост через реку Шарья. Это жемчужина моей коллекции. Шарья – это город и река в Костромской области. Этот город мостом соединялся с большой землей, мост разрушился, пришел в упадок. Местная администрация оценила стоимость ремонта в 13 млн. рублей, сказала, что таких денег в бюджете нет. Местные предприниматели скинулись и своими силами этот мост отремонтировали, и обошлось это все в 10 раз дешевле.
Способность общества доделывать за власть её работу только подрывает стимулы чиновников добросовестно исполнять свои обязанности
Как относиться к таким инициативам, следует ли испытывать по этому поводу удовлетворение или, быть может, определенную озабоченность? Дело в том, что у такого рода коллективных низовых инициатив, когда люди пытаются на проблемы, связанные с недостаточной эффективностью государства откликаться своими собственными усилиями, может быть серьезная теневая сторона. Речь даже не о том, что все-таки лесные пожары лучше тушить профессиональным пожарным, которые для этого хорошо натренированы, у которых для этого есть необходимое оборудование, самолеты, современные средства пожаротушения, а мосты лучше строить и ремонтировать профессиональным строительным организациям. Сколь бы ни были изобретательны, отважны и добросовестны волонтеры, они полноценной альтернативой профессионалам никогда не станут.
Но помимо всего этого, есть и иные причины видеть в низовых коллективных инициативах теневую сторону. Если граждане способны совместными усилиями решать конкретные проблемы, доделывая за власти их работу, то такого рода инициативы еще больше подрывают стимулы чиновников добросовестно исполнять свои обязанности. Действительно, в таком случае бюрократы знают, что за них доделают то, что они не сделали (хотя и должны были сделать) сами. Мы видим, таким образом, в этих инициативах два противоположно направленных эффекта – прямой и косвенный. Прямой – то, что работа делается, мост построен, это замечательно, и этому надо аплодировать. Косвенный же эффект состоит в том, что способность общества к таким начинаниям дестимулирует власти.
Возникает вопрос – какой из этих эффектов оказывается сильнее? Мною и моим коллегой Ринатом Меняшевым показано, что косвенный эффект очень часто преобладает над прямым. Начнем с теоретического анализа. На приведенных графиках вдоль оси (a) мы измеряем гражданскую культуру, а вдоль оси (w) – низовой социальный капитал, который необходим, условно говоря, для самостоятельного ремонта мостов. Мы видим, что масштабы злоупотребления власти сильно возрастают с ростом этого низового социального капитала по причине, о которой я только что говорил. И в то же время они, конечно, падают с ростом гражданской культуры.
Но самая интересная та картинка, что следует ниже, где показана полная отдача на социальный капитал в зависимости от двух указанных переменных, то есть итоговый результат, который интегрирует оба названных мной эффекта – прямой и косвенный. Мы видим, что если гражданской культуры нет вовсе (a=0), то тогда благосостояние общества растет по мере роста способности замещать государство. Это происходит потому, что обществу нечего терять, а эффективность государства уже и так на нуле. Но если в обществе имеется некоторый запас гражданской культуры, то способность людей доделывать за государство его работу приводит к тому, что экономические результаты падают.
На следующих далее рисунках представлены результаты эмпирического анализа, подтверждающие выводы теории. Рисунки показывают, как качество городского управления (расчеты сделаны по материалам приблизительно 1000 больших и средних российских городов) зависит от запаса социального капитала. На левом рисунке по горизонтальной оси мы измеряем гражданскую культуру, а по вертикальной – качество городского управления; мы видим отчетливо выраженную положительную связь. А на правом – то же самое в отношении горизонтального социального капитала, условно говоря, «сделай сам». И здесь связь столь же отчетливая, но она отчетливо отрицательная.
Если мне удалось убедить вас в том, что социальный капитал – действительно полезный ресурс развития, и в том, что разные города, разные регионы, разные группы в обществе в разной степени наделены социальным капиталом, то возникают два очень важных вопроса: во-первых, чем объяснить это разнообразие, и во-вторых, можно ли как-то на него повлиять, можно ли способствовать накоплению социального капитала. На первый вопрос ответить не так просто, но проще, чем на второй. Ответ выглядит приблизительно так: социальный капитал – это ресурс, который обладает одновременно изменчивостью, пластичностью и устойчивостью. Как объяснить устойчивость социального капитала? Нормы и ценности передаются от поколению к поколению, и происходит это, главным образом, во время ранней социализации человека в семье, когда родители воспитывают детей в собственных нормах и ценностях. В результате ценности транслируются от одного поколения к другому; это так называемая «вертикальная социализация» в семье. Именно поэтому через несколько поколений иммигрантов после их прибытия, скажем, в США, когда их со страной происхождения почти ничего не связывает, тем не менее, их нормы и ценности сильно коррелированы с нормами и ценностями их современников, которые живут сегодня в Италии, Японии, России и т.д. Но с другой стороны, нормы и ценности пластичны, потому что они отражают опыт индивидов, социальный, экономический и политический опыт людей, который они получают в молодые годы. Немецкий социолог Карл Маннхайм сформулировал понятие коллективной памяти поколений. Это коллективная память формируется в так называемый период formative years – возраст с 17-18 до 25-28 лет, когда люди особенно восприимчивы к происходящему с ними и вокруг них, и влияние такого опыта на ценности и взгляды сохраняется на всю оставшуюся жизнь поколений.
Дефицит доверия в сегодняшней Африке, точнее, на ее западном побережье (там, откуда шла работорговля) связан именно с работорговлей
Вот несколько примеров того, как у социального капитала возникают исторические корни. Очень яркий и интересный пример – это влияние работорговли на доверие в современной Африке. Работорговля в Африке началась в XV-XVI вв., это было связано с так называемой трансатлантической работорговлей, когда Новый Свет, колонизация европейцами Америки, сначала Южной, Латинской, Центральной, потом и Северной потребовали большого количества рабов, которых начали в массовом порядке «экспортировать» из Африки. Работорговля питалась «низовой» активностью и инициативой местного населения. Работорговцы не захватывали рабов, потенциальных рабов приводили к закупочным пунктам и потом на корабли их сажали соплеменники. Сначала это были военнопленные, потом друзья, родственники. Их можно было с прибылью продать работорговцам, и, разумеется, эта практика подорвала доверие людей в Африке друг к другу. Признаки этого недоверия ощущаются по сию пору. Очень убедительная эмпирическая стратегия позволила авторам этой работы Нанну и Уатченкону доказать, что дефицит доверия в сегодняшней Африке, точнее, на ее западном побережье (там, откуда шла работорговля) связан именно с работорговлей.
Вот еще несколько примеров. Американский экономист Джулиано установил, что если молодость человека пришлась на экономический кризис, то люди несут на себе отпечаток этого опыта – они меньше доверяют окружающим, меньше верят в собственные силы, более склонны к патернализму и т.д. А вот очень интересная работа французско-русских экономистов – Гросфелд, Роднянского и Журавской – о так называемой черте оседлости, проходящей через 6 современных стран (Литва, Латвия, Белоруссия, Россия, Украина и Молдова), когда евреям во времена Российской империи разрешалось селиться лишь по западную сторону этой черты и за редкими исключениями не разрешалось ее пересекать. Так вот эти ученые исследовали различия между нормами и ценностями наших современников по обе стороны этой границы, и обнаружили четкие различия между представлениями о политическом режиме, о правах и свободах, о рынке, а также в уровне доверия по разные стороны черты оседлости. С чем связаны эти различия? Евреев практически не осталось ни по одну, ни по другую сторону, они исчезли – уехали или были истреблены во время Холокоста. Однако присутствие или отсутствие этой этнической группы в прошлом оставило отчетливый отпечаток на ценностях и взглядах современного населения.
Как происходит накопление социального капитала? Важный фактор – социальная и политическая история. Есть основания считать, что опыт демократии и самоуправления способствует накоплению гражданской культуры и «демократического капитала». Это на самом деле уже упомянутая гипотеза Роберта Патнэма – на севере Италии больше социального капитала и гражданской культуры, чем на юге, ввиду нескольких столетий опыта более или менее демократического самоуправления в итальянских городах-республиках.
Общепризнанным является мнение о том, что социальный капитал растет с уровнем образования, этот вывод неоднократно подтвержден эмпирически, в том числе на российских данных моим коллегой Тимуром Натховым. Есть также интересная гипотеза (связываемая с американскими социологами Липсетом и Инглхартом (последний в течение ряда лет сотрудничает с Высшей школой экономики), согласно которой социальный капитал накапливается в ходе экономического развития, и более экономически благополучные общества переходят от традиционных ценностей выживания к ценностям автономии и самореализации, требующими демократических режимов. Из этой гипотезы можно было бы сделать вывод о том, что эффективные демократии возникают более или менее спонтанно с улучшением состояния экономики. Надо сказать, что такие представления остаются предметом оживленных дискуссий.
Например, в России в 2000-х годах наблюдался устойчивый экономический рост, значительный рост доходов, однако значимое улучшение демократических институтов при этом не наблюдалось. Еще один контрпример – Китай, где экономика растет темпами 7-8-10% в год на протяжении 25 лет, а китайская политическая система между тем не эволюционирует в том направлении, которое предсказывали Сеймур Липсет и Рональд Инглхарт.
Еще одна гипотеза оживления общественной активности и самоорганизации состоит в том, что по мере роста доходов люди начинают испытывать растущий дисбаланс между частным и общественным потреблением. Вы хорошо зарабатываете, вы купили красивую квартиру, у вас машина или две, вы ездите за границу в отпуск, вы решили проблемы частного потребления. Но вы выходите на улицу и обнаруживаете грязный воздух, дорожные пробки, недовольны медицинским обслуживанием и многими другими вещами. Кое-что из этого можно купить за деньги, но многое купить нельзя. Если вы хотите сократить дисбаланс между частным и общественным потреблением, вам нужно повысить эффективность создания общественных благ. Созданием общественных благ ведают государственные органы, муниципальные органы. Значит, необходима самоорганизация для того, чтобы добиться более эффективной работы этих органов, или как альтернатива – частная коллективная инициатива, которые заменят государство.