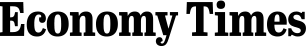Договориться с дьяволом
Разнообразные «первые президенты», «национальные лидеры», «великие председатели» и прочие автократы-долгожители, которых для простоты будем называть «диктаторами», всегда оправдывали свое бесконечное пребывание во власти необходимостью обеспечить экономический рост и процветание страны.
Для этого и нужна стабильность, утверждали они. Драйверы развития из вас так себе, могли бы возразить экономисты. Диктатуры, действительно обеспечивавшие экономический рост, можно пересчитать по пальцам одной руки, особенно если исключить такой фактор развития, как рост цен на экспортный ресурс державы. В принципе, авторитарных правителей, сумевших улучшить жизнь своих подданных,всего пятеро — Ли Куан Ю в Сингапуре, Чан Кай Ши на Тайване, Пол Кагамев Руанде, Аугусто Пиночет (что было, то было) в Чили. В этот список мог бы войти Сухарто (Индонезия), но правление этого диктатора закончилось экономическим коллапсом, поэтому пятым в нашем списке будет Джерри Роллингс, председатель Временного революционного совета Республики Гана (бывшей британской колонии Золотой Берег).
Из философов – в диктаторы
Из этой компании экономически успешных диктаторов Джерри Роллингс в России известен меньше всех. Зато 60 лет назад предшественника Роллингса, первого президента Ганы Кваме Нкруму, в СССР знал каждый школьник. Да и вообще Гана была самой модной страной в «освобожденной от колониализма» Африке. И личность Кваме Нкрумы сыграла в этой популярности огромную роль.
Обаятельный демагог Нкрума сумел понравиться таким разным людям, как генеральный секретарь Хрущев, председатель Мао и президент Кеннеди. Прекрасно образованный, поживший в США и Британии, Нкрума отлично знал белых людей и понимал, как должен вести себя вождь африканской демократии, чтобы стать своим человеком по обе стороны «железного занавеса».
В рассуждениях Нкрумы каждый находил, что хотел. Философия? Конечно же, «научный социализм», но, оговаривался Нкрума, без всякой классовой борьбы. Национальный вопрос? В отличие от других идеологов антиколониализма, Нкрума не призывал истреблять белых жителей Африки. Антиколониальная борьба? Только ненасильственными методами, в стиле Махатмы Ганди. Экономическая политика? Нкрума поругивал империалистических олигархов, но это было вполне в мировом мейнстриме. А так — земля крестьянам, заводы — рабочим, торговля — мелким предпринимателям. Кроме того, Нкрума обещал Гане индустриальное развитие — дайте только денег, и постколониальная Африка покажет чудеса!
Деньги у Нкрумы были: в наследство от проклятых колонизаторов ему досталась одна из самых преуспевающих западноафриканских территорий — с подушевым доходом на уровне Мексики, современной горнодобывающей промышленностью, лучшими в тропической Африке системами образования и здравоохранения, валютными резервами в 200 миллионов фунтов стерлингов. А главное — с бескрайними плантациями какао-бобов, крупнейшим мировым экспортером которых была Гана.
С такими возможностями можно было строить хоть социализм, хоть общество потребления, но тут цены на какао-бобы выросли в три раза, на страну пролился валютный дождь, а у Нкрумы началось «головокружение от успехов». Соратников по антиколониальной борьбе, не разделявших его взглядов, Нкрума отправил в тюрьмы. В стране были устроеныколлективизация и монополия внешней торговли. Все современные бизнесы перешли в руки «государства» в лице самого Нкрумы, который провозгласил себя пожизненным президентом, а заодно произвел в фельдмаршалы. Свежеиспеченному фельдмаршалу нужны были военные победы — и солдаты Нкрумы оставили по себе кровавую память по всей Западной Африке. Улицы городов Ганы были уставлены статуями Нкрумы, а недовольные его политикой исчезали без следа. Купаясь в какао-долларах, Нкрума заговорил уже и о Соединенных штатах Африки с собой во главе. Для начала был заключен военный и политический союз с соседней Гвинеей.
Но тут что-то пошло не так. Офицеры армии Ганы, получившие боевой опыт и ощутившие вкус к политике, рассудили, что делить доходы от экспорта какао-бобов они могут и без участия фельдмаршала Нкрумы. В 1966 году Нкрума отправился с государственным визитом в Пекин, где и узнал, что на родине его больше не ждут. Изгнанного президента пригрел другой пожизненный президент — Ахмед Секу Туре, хозяин союзной Гвинеи. Он осыпал Нкруму почестями, но к принятию решений, естественно, не допустил. Нкруме оставалось только проклинать происки империалистов. Однако 13 лет спустя история Ганы сделала новый разворот.
Из диктаторов – в философы
Возможно, генералы, сместившие Нкруму, и хотели добра для жителей Ганы, но что-то опять пошло не так. В страну вернулись иностранные капиталы, промышленность была приватизирована, одно правительство сменяло другое,однако добиться экономического развития новым властям не удавалось. Вернее, развитие было, но довольно специфическое — сказочно богатели исключительно члены правительства и их жены и друзья.
В мае 1979 года Джерри Роллингс, лейтенант ВВС Ганы, решил высказать все, что думает по поводу деятельности генерала Акуфо, тогдашнего главы Высшего военного совета Ганы. В то время главным информационным каналом Ганы было радио — поэтому Роллингс со своими товарищами захватил столичную радиостанцию и обратился к народу. Войска атаковали радиостудию, Роллингс защищался отчаянно, но силы были неравны.
На военном суде он повторил в адрес генерала Акуфо все свои слова. Его ждал расстрел, но дальше все было как в кино — солдаты освободили мятежного лейтенанта и привезли его в казармы, где Роллингс призвал армию к восстанию. С автоматом в руках он повел своих сторонников на штурм радиостудии и снова обратился к народу. Ожесточенные перестрелки на улицах столицы продолжались несколько дней — хозяева Ганы понимали, что Роллингс их не пощадит. В этом они не ошиблись — победив, новый председатель Революционного совета вооружённых сил лейтенант Джерри Роллингс тут же приказал расстрелять трех бывших генералов-президентов Ганы, а также лидеров тайной полиции и членов Верховного суда.
Можно было ожидать, что он будет править Ганой по примеру своих предшественников, однако спустя всего три месяца лейтенант провел выборы и передал власть гражданскому правительству.
Правда, спустя два года Роллингс сверг проворовавшегося президента Ганы — на этот раз обошлось без стрельбы — и разогнал министерства и ведомства, заменив их «комитетами защиты революции». Сотни коррумпированных чиновников Роллингс отправил в концлагеря.
Наученные горьким опытом экономисты не верили «революционной программе» бравого лейтенанта, а для иностранных политиков Роллингс был совсем уж откровенным диктатором. Но экономика Ганы повела себя совсем не так, как предсказывали противники Роллингса. Уже в 1983—1986 годах среднегодовые темпы роста ВВП составили 6,5 %, а внешний долг страны уменьшился в 2,5 раза. В Гану пришли крупные инвестиции, резко выросло производство продовольствия. 40% бюджета Роллингс тратил на больницы и школы, строил электростанции и дороги. В 1990-е в Гане снова выбирали президента, и Роллингс дважды (с небольшим перевесом) побеждал. А в 2000 году оставил президентский пост. Сейчас Роллингс зарабатывает на жизнь лекциями о «философии устойчивого развития» в ведущих мировых университетах и по-прежнему не стесняется в выражениях в адрес уже новых руководителей Ганы.
Три закона диктатуры
Почему так по-разному вели себя руководители Ганы? В принципе, можно было предположить, что, получив в руки экспортные доходы страны, благообразный философ Нкрума «испортится», превратившись в организатора политических чисток. Но никто не ожидал, что армейский офицер Роллингс, попросту перестрелявший политическую и военную верхушку Ганы, в итоге приведет страну к устойчивой демократии вполне европейского образца (особенно заметной на фоне кровавых кошмаров в странах-соседях)
На эти вопрос искали ответ ученые Шаун Ларком (University of Cambridge), Мар Сарр (University of Cape Town) и Тим Виллемс (University of Oxford) в работе «Что делать с плохим диктатором?»
Суть проблемы, объясняли исследователи, заключается в том, насколько для диктатора возможен вариант «мирной жизни» после отстранения от власти. Если существуют шансы «спокойно встретить старость» в хорошем доме с хорошей женой, диктатор может пойти на уступки оппозиции и уйти. Но если запас преступлений не оставляет варианта на тихую жизнь, то начальник будет драться за власть до последнего.
Когда перейдена черта, за которой «по-хорошему» уйти нельзя, то усиление оппозиции ведет уже только к ужесточению репрессий. При этом возможность мирного исхода становится еще меньше. И чем меньше реальная поддержка народом диктатора, перешедшего точку невозврата, тем сильнее репрессии.
Из этой модели есть три важных следствия:
1. действия диктатора в начале его правления не определяют его последующую политику — может быть все «плохо», а может быть «хорошо»;
2. «хорошо» может быть в том случае, если оппозиция быстро мобилизовалась и не дала возможности диктатору пройти точку невозврата;
3.Если «черта перейдена», то не имеет значения, был ли диктатор изначально «добрым» или «злым» — он закончит кровью.
Подкупить диктатора
Однако история трансформации диктатуры в демократию знает еще более удивительный пример, чем карьера Джерри Роллингса.
Когда политиканы из партии Африканского конгресса Ньясаленда выдвинули в свои лидеры доктора медицины Хастингса Банду, они, должно быть, рассчитывали, что маленький пожилой врач, даже в жару не снимавший темного костюма-тройки, получивший образование в США и полжизни проживший в Англии, будет их послушной марионеткой и хорошим переговорщиком с британской администрацией.
Так оно по началу и было, пока в 1964 году Хастингс Банда, премьер-министр Малави (бывшего Ньясаленда) не приказал скормить крокодилам своих соратников по антиколониальной борьбе и распорядился называть себя не иначе, как «Великий лев Малави». Первым делом «Великий лев», которому было уже под семьдесят, составил новую конституцию, в который были прописаны защита консервативных ценностей, охрана суверенитетаМалави и расширенные президентские полномочия. На президентских выборах Банда был единственным кандидатом.
«Великий лев» Банда был не только жестоким, но и хитрым. Провозгласив себя антикоммунистом, Банда поддерживал прекрасные отношения с лидерами социалистических стран — Чаушеску в Румынии, Кимом в Северной Корее и Ходжой в Албании. Дружил Банда и с президентами-соседями, выбравшими «социалистический путь развития»: он снабжал их деньгами, а заодно — подсылал на их территорию вооруженные отряды, подогревавшие огонь гражданской войны, тлевший в Танзании и в Мозамбике. ВождиЧерной Африки сердились на Банду за сотрудничество с режимом апартеида в ЮАР. Но после прихода к власти Нельсона Манделы выяснилось, что Банда щедро финансировал боевиков Африканского национального конгресса.
Деньги у Банды были — «великий лев» показал себя настоящей акулой бизнеса, затеяв в аграрном Малави «индустриальное импортозмещение». Государственные корпорации, взявшиеся поднимать экономику с колен, возглавили друзья Банды. В результате хорошей зарплатой в Малави считалось 200 долларов в год. Зато состояние самого Банды оценивалось на уровне полумиллиарда долларов — половина ВВП страны.
Не забывал доктор Банда и о традиционных ценностях, записанных в конституции — в Малави были запрещены декольте и короткие юбки. Из кинофильмов вырезали сцены с поцелуями, из книг вырывали страницы, где находили «непристойное содержание». Английские учебники истории Банда приказал сжечь. От греха подальше «Великий лев» запретил даже телевидение — ему хватало одной радиостанции и двух государственных газет. Сам Банда не был женат, однако при нем постоянно находилась красавица Сесилия Кадзамира, «хозяйка страны» (на 40 лет младше президента). Портрет Банды висел в Малави в каждой комнате на самом почетном месте. Банда в некотором роде был героем поп-культуры — он стал прототипом кровавого диктатора H’Джала из романа Патрика Александера «Смерть раненого зверя с тонкой кожей» и его экранизации «Профессионал».
Несмотря на крах экономики, Банда мог бы досидеть на своем месте до самой смерти, отправляя недовольных «на корм крокодилам», как любил выражаться. Тем более, что избирательницы Малави его обожали. Но Банде было уже за девяносто, и его подруга Сесилия, ее родственники и друзья, руководившие всякими «фондами инвестиций», беспокоились за собственное благосостояние после кончины «великого льва».
И тогда противники режима Банды, отсиживавшиеся большей частью за пределами страны, предложили окружению диктатора форменную сделку. Если «великий лев» проводит честные выборы, то в случае поражения он может убираться из Малави, прихватив все свое состояние (да и вообще все, что успеет украсть). Оппозиция, придя к власти, гарантирует ему защиту собственности и освобождение от ответственности.
Вопреки ожиданиям, старик согласился. Правда, он публично пожалел, что не успел скормить оппозицию крокодилам, но честно выполнил свою часть сделки. Оппозиция тоже не подвела — был даже проведен судебный процесс, оправдавший Банду во всех его деяниях, и «великий лев» убыл в ЮАР, прихватив свои миллионы. Там его ждал дворец в Йоханнесбурге, где ондожил почти до ста лет в роскоши и почете.
Как такое могло получиться? Противники Банды поступили верно, обращаясь не к самому престарелому диктатору, а к его «семье», сказал бы профессор Буэна де Мескита, автор концепции селектората.
В каждой стране, объясняет Мескита, существует селекторат — часть населения, которая действительно принимает решения о том, кто будет править страной. Каким формальным образом это обставлено, значения не имеет. Селекторат может включать в себя все население страны — и в этом случае мы имеем дело с классической демократией. Но селекторат может состоять из одного человека — и тогда перед нами классическая диктатура. Поэтому «борьба за демократию» должна быть борьбой за увеличениеселектората — чем больше людей вовлечено в политический процесс, тем труднее одному человеку «сосредоточить в своих руках необъятную власть», как выражался один из величайших диктаторов ХХ века. Так что, предложив «семейству» Банды обменять власть на благополучие, противники «великого льва» расширили селекторат и смогли превратить Малави в демократию, правда, не очень успешную.
Впрочем, экономический успех редко бывает спутником диктатур — хозяин страны считает, что рост благосостояния людей будет угрожать его власти. Как заявил владыка Заира Мобуту Сесе Секо («Великий воин, шагающий от победы к победе, оставляя за собой трупы и пожарища») ЖювеналюХабиаримане, своему коллеге по диктаторскому ремеслу, президенту Руанды:
«Я говорил тебе, не надо строить дороги. Дороги до добра не доводят. Я был президентом 31 год и не построил ни одного километра дорог. А теперь по твоим дорогам к тебе идут твои враги».