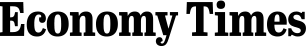Капиталист Сталин, или Уроки макроэкономики
Как говорил товарищ Сталин на XV конференции ВКП(б) в конце 1926 года, «судьба Октябрьской революции и практическое разрешение вопроса о строительстве социалистического общества связаны с тем, сумеем ли мы найти необходимые средства…
…для перестройки всего хозяйства на базе крупной промышленности и целесообразно их затратить. Поэтому вопрос об источниках накопления, т. е. о том, откуда и в каком размере могут быть получены эти средства, является определяющим для всей политики нашей партии на предстоящий период».
Определяющий вопрос
Дело в том, что «имперская Россия» – это была страна без капитала. Это была экономика с очень низкой нормой накоплений, которым неоткуда взяться – у вас не может быть капитала, если 90% населения живет полунатуральным хозяйством, как крестьяне жили до второй половины XIX века.
Первая индустриализация России делалась на иностранные деньги
Первая (ее еще называют «железнодорожная») индустриализация России делалась на иностранные деньги, потому что других не было – и в итоге, к 1914 году, 43% торгово-промышленного капитала России – это иностранные инвестиции.
Дальше Мировая война, потом Гражданская, потом НЭП, и к 1928 году подушевой ВВП в СССР возвращается на уровень 1913 года. И структура экономики – такая же, как при царе-батюшке – 45% ВВП обеспечивало сельское хозяйство.
А зачем тогда вообще была революция? Если живем как при царе, и так же работаем, как при царе, и крестьяне работают, и рабочие работают, и ничего «бесплатного» нет (напомним, что нет ни пенсий, ни «социалки»). Только качество товаров похуже, а цены повыше. Исследование, проведенное в 1929‑1930 годах Центральным Союзом потребительных обществ, Высшим Советом народного хозяйства (ВСНХ) и Народными комиссариатами труда и рабоче-крестьянской инспекции, установило, что «процент товаров плохого качества во всех почти обследованных отраслях промышленности превышал 25%, часто достигая до 50% и более».
А почему хуже качество товаров? Потому, что производственная инфраструктура изношена до предела, за 15 лет никаких инвестиций не было, и эти инвестиции неоткуда взять.
Ножницы для крестьянских доходов
Сначала большевики попробуют накопить капитал с помощью «закона первоначального социалистического накопления», придуманного экономистом Евгением Преображенским (соавтором Николая Бухарина по книге «Азбука коммунизма»). Согласно идее Преображенского, сбережения, необходимые для инвестиций в индустриализацию, должны быть мобилизованы в госбюджет через снижение потребления крестьян. Обложить крестьян «данью» (сталинское выражение!) предполагалось через трансфертные цены и оборотные налоги (государство покупает на селе дешево, продает туда дорого).
Почему крестьяне должны были на это согласиться? В своих работах Преображенский доказывал, что после революции уровень жизни села вырос, и временный возврат к дореволюционному уровню потребления это, в общем, нормально.
Реальные доходы русских крестьян составляют чуть более половины того, какими они должны быть
Историю с «ножницами цен», которыми предлагалось срезать крестьянские излишки, хорошо описал великий экономист Джон Мейнард Кейнс, которого большевики привозили в Советский Союз, как раз в середине 1920-х, и принимали на самом высоком уровне (разве что Сталин с ним не встречался). Кейнс сразу понял, на чем держится народнохозяйственный план большевиков
«Официальные методы эксплуатации крестьян заключаются не столько в налогообложении,… сколько в политике цен. Монополия над импортом и экспортом, фактический контроль над промышленной продукцией позволяют властям поддерживать цены на уровне, крайне неблагоприятном для крестьянства.
У него закупают зерно по ценам, гораздо более низким по сравнению с мировыми, а продают крестьянам текстиль и другие промышленные товары по заметно более высоким ценам; разница между ними составляет фонд, из которого можно обеспечить сверхвысокие цены, равно как и покрыть общие издержки неэффективного производства и распределения.
Таким образом, реальные доходы русских крестьян составляют чуть более половины того, какими они должны быть».
Советы Кейнса
С Кейнсом большевики советовались о том, где взять деньги. Какие советы дал Кейнс – об этом есть примечательное свидетельство экономического географа Николая Полетики, присутствовавшего на одном из таких совещаний, где с Кейнсом беседовали глава Коминтерна Григорий Зиновьев и редактор «Ленинградской правды» Георгий Сафаров.
Собеседники пытались убедить Кейнса в блестящих перспективах экономического развития СССР. «У нас наиболее важные отрасли промышленности, внешняя торговля и банки национализированы. Мы можем направлять экономическое развитие страны не по закону спроса и предложения, на основе анархии рынка, а по определённому плану, на научной основе. У нас не будет конкуренции в производстве, не будет кризисов и скачков в производстве, не будет падения производства, а лишь один ровный и постепенный подъём», — объяснял Зиновьев.
Однако британский экономист не стал слушать рассказ о научном хозяйственном плане, а перевел разговор в практическую плоскость.
Во-первых, заметил Кейнс, советская экономика связана с мировым хозяйством, это будет оказывать постоянное давление на экономику России.
А, во-вторых, продолжил англичанин, «вы можете составить любые планы, но как вам выполнить их, когда ваши жители не имеют никаких гарантий ни для своих прав, ни для своего имущества? Они не могут говорить свободно, не могут критиковать. Они не уверены в том, будут ли иметь завтра то, что имеют сегодня, не будет ли их имущество завтра конфисковано. При таких условиях нельзя строить длительные планы развития».
Слова о «правах людей» Зиновьев обсуждать не стал, но замечание Кейнса о зависимости социалистической экономики от мировой его задело.
Кейнс объяснил свою мысль. «Вы не можете создать совершенно изолированное от остального мира хозяйство. Вам нужна техника – машины, орудия, нужен капитал. Вы можете получить необходимые средства для развития хозяйства, например, путём займов. Но вряд ли кто-нибудь сейчас вам даст заём. Второй путь – концессии. Но при заключении договоров о концессии капиталисты навяжут вам свои условия, если всё же рискнут вложить свои деньги в вашу страну. Дело с концессиями очень рискованное. Не для вас, конечно, а для капиталистов, рискующих своими деньгами…»
Наконец, продолжил Кейнс, вы можете получить необходимые для экономического развития вашей страны средства лишь при условии, что ваш экспорт будет превышать ваш импорт. Если этого не будет, то у вас не хватит средств на покрытие расходов даже по обычным статьям бюджета. Если же доход от вашего экспорта будет ниже ваших расходов на импорт, вам придётся внутри России прибегнуть к печатанию денег, червонец полетит вниз и обесценится.
Вы рисуете чересчур мрачные картины, обиделся Зиновьев. Мы, думаю, справимся и не дойдём до краха.
Справитесь, согласился Кейнс. Но только в том случае, если у вас в стране рабочие будут получать за труд значительно меньше, чем получают рабочие за границей. Или если у вас будет почти бесплатный и принудительный труд.
На этом, вспоминал Полетика, разговор и закончился.
Ненужные червонцы
Конечно, на резкость Кейнса можно было обижаться, но политическое руководство СССР понимало, что англичанин прав. Ножницы цен, казавшиеся поначалу таким эффективным инструментом, неожиданно начали «щелкать» все хуже и хуже. Причина была в макроэкономике. Дело в том, что одним из важных элементов Новой экономической политики была возможность коммерческого кредитования предприятиями друг друга. В обычной экономике за выдачу кредита отвечают банки, которые оценивают и кредитоспособность заемщика и риски невозврата, но в НЭПовской экономике каждое крупное предприятие фактически выполняло роль такого квазибанка. Выданные ими кредиты в дальнейшем учитывались Госбанком, и становились «деньгами», таким образом, накапливая избыточную денежную массу. Как отмечал российский экономист и историк Сергей Журавлев, «за период с 1925-го по 1928 год наличные рубли и безналичные остатки на счетах предприятий выросли соответственно в 1,6 и 1,7 раза».
Фактически это была денежная эмиссия, и она не могла не привести к росту цен на хлеб, но «рыночные цены» пришли в резкое противоречие с «твердыми» закупочными ценами, предлагавшимися государством. В результате индекс потребительских цен к ценам 1913 года, принятым за 100, составлял в 1928 году 143, в 1929-м — 153.
А «золотой червонец», о котором говорил Кейнс, вопреки всем мифам, не интересовал зарубежных партнеров Советской России.
Сам Феликс Дзержинский, возглавлявший тогда ВСНХ, признавал, что «если сравнить покупательную способность червонца у нас на рынке и иностранной валюты на заграничном рынке, то окажется, что на ту валюту, на которую наши экспортеры продают свои заготовки, они могли бы за границей купить гораздо большее количество изделий, товаров, чем на те червонцы, которые они получают в обмен на валюту… Червонцы, обмененные на валюту в Госбанке, дают советским импортерам возможность купить гораздо больше, чем на эти червонцы можно купить у нас».
В 1925 году по покупательной способности николаевский золотой рубль равнялся 1,8 «червонного рубля». Несмотря на все больший разрыв в ценах внутреннего и внешнего рынков, официальный курс червонца — 9,4 рубля за фунт стерлингов — оставался неизменным, и становился все более нереальным. В действительности же валютный рынок в СССР давал в июне 1926 года за фунт стерлингов 14-15 червонных рублей.
Официально червонец впервые был включен в котировку на Рижской бирже 10 апреля 1924 года. Таллиннская биржа начала котировать его с 7 мая того же года, Римская — с 1 апреля 1925 г. Кроме того, червонец котировался в Китае, Монголии и Иране.
Что касается Лондонской биржи, то она советскую валюту не котировала. Однако во второй половине 1923 года Госбанк СССР заключил с британским «Ллойдс банком» соглашение о продаже и покупке червонца по золотому паритету, вне зависимости от реальной покупательной способности рубля. (Довоенный золотой паритет — 1 руб. = 0,7438 г золота.) По данным советского торгпредства в Лондоне, фирмы покупали червонцы только для совершения конкретных сделок.
Но, как писал историк Александр Донгаров в книге «Иностранный капитал в России и СССР», «…ни эти корреспондентские соглашения, ни неофициальная котировка червонца некоторыми заграничными банками, ни официальная котировка его на нескольких периферийных биржах не означали, что мировой валютный рынок признал червонец в качестве надежного средства накопления и расчетов по всем видам платежей. Здесь наш червонец не котировался, и поэтому все расчеты с концессионерами приходилось вести в иностранной валюте».
В 1926 году червонец перестал размениваться на золото и валюту на частном валютном рынке, а в 1928 году был введен запрет на вывоз червонцев из СССР. С тех пор он уже нигде не котировался.
Сталин и мужик
О том, чем обернулись ножницы цен для крестьянина, «делавшего революцию» и получившего за это «землю», ярко рассказал Кондрат Майданников, персонаж «Поднятой целины» Михаила Шолохова.
«Мое хозяйство середняцкое. Сеял я в прошлом году пять десятин… Рабочие руки — вот они, одни. С посева собрал: девяносто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать три овса. Самому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов десять, овес коню остается. Что я могу продать государству? Тридцать восемь пудов.
Клади кругом по рублю с гривенником, получится сорок один рубль чистого доходу. Ну, птицу продам, утей отвезу в станицу, выручу рублей пятнадцать.
— Можно мне на эти деньги обуться, одеться, гасу, серников, мыла купить? А коня на полный круг подковать деньги стоит?.. Да ить это хорошо, бедный ли, богатый урожай. А ну, хлоп — неурожай? Кто я тогда?»
А что мешало большевикам платить условному Кондрату Майданникову «справедливую цену» за его хлеб (тем более, что внутри страны деньги были)?
Ответить на этот вопрос невозможно вне экономического контекста того времени. Дело в том, что и Сталин, и его окружение прекрасно помнили, к какому неожиданному макроэкономическому эффекту привел рост доходов крестьянства в годы Первой мировой войны.
Эта история рассказана в фундаментальной работе русского экономиста и политика Сергея Прокоповича «Война и народное хозяйство» (изданную Советом всероссийских кооперативных съездов в Москве в 1918 году). Что же произошло?
Рост доходов крестьян черноземной полосы, торгующих хлебом, объяснял Прокопович, привел к тому, что эти крестьяне, живущие продажей зерна, увеличили собственное потребление и сократили посев, а также уменьшили свою трудовую активность в разного рода сельскохозяйственных промыслах (деньги есть, еды хватает, а товаров не купить — так зачем напрягаться на работе).
В русских условиях полунатурального хозяйства рост цен на хлеб не вызвал повышения его предложения, а, напротив, спровоцировал сокращение этого предложения — вместе с дальнейшим ростом цен, подчеркивает Прокопович.
В свою очередь, для крестьян промышленных губерний рост цен на хлеб обернулся существенными потерями, т.к. эта часть крестьянства жила не продажами хлеба, а трудом на заводах и фабриках и разного рода промыслами, хлеб оно большей частью покупало.
Результатом стал рост требований повышения зарплат и социальной напряженности в городах, что в свою очередь стало прологом к событиям 1917 года.
В советское же время в условиях товарного голода дополнительные и к тому же обесценивающиеся деньги не были нужны крестьянству ни для чего, кроме как для уплаты сельхозналога, который в 1928 году был повышен в полтора раза и затем продолжал расти в разных формах, особенно через индивидуальное обложение и кратное самообложение (то есть налоги на местные нужды).
Большевики натурально боялись, что крестьянин, в ситуации роста своих доходов, просто «свернет посев» — и тогда уже пролетарии в городах не смогут купить хлеб по приемлемой цене.
Сталин меньше всего хотел повторения событий 1917 года и искал хозяйственную модель, которая позволила бы в кризисной ситуации не допустить стихийного сокращения предложения продовольствия со стороны деревни, в условиях, когда город производит не то, что нужно потребителям, а то, что требует производить политическое руководство.
И такую модель Сталин нашел.
Волшебный ключ от роста
Волшебный ключик от экономического роста предложил экономист Григорий Фельдман, руководитель отдела перспективного планирования Госплана СССР. В это время Госплан работал как над планом первой пятилетки, так и над так называемым генеральным планом на период от десяти до двадцати лет. Фельдману было поручено подготовить теоретическую модель в качестве основы для этого плана. Свои идеи он изложил в статье «К теории темпов народного дохода (Под углом зрения народного хозяйства СССР)», опубликованной журналом «Плановое хозяйство» в 1928 году.
Идея Фельдмана была проста, как и все гениальное, а главное, вполне укладывалась в теорию марксизма, точнее, теорию расширенного воспроизводства капитала.
Смотрите, объяснял Фельдман, всю экономику можно разделить на два сектора: один производит инвестиционные товары, другой — потребительские товары. Ограничителем производства являются производственные мощности (капитал), но, если вы имеете возможность принудительно распределять инвестиции между секторами, то получаете практически вечный двигатель экономического роста – перемещая капитал из потребительского сектора в инвестиционный, вы будете обеспечивать промышленный рост так долго, сколько захотите
А как же потребление? Никак, мог бы ответить Фельдман. Потреблением придется пожертвовать. Так люди же работать не будут! Почему же?! Если у вас есть аграрно перенаселенная страна, то достаточно будет создать такие условия в аграрном секторе экономики, чтобы крестьянин был счастлив получить возможность встать к станку на заводе и получить больше, чем он мог бы заработать на земле. Перемещая труд из низкопроизводительного сектора (сельское хозяйство) в выскопроизводительный (промышленность), на макроуровне вы получите общий рост производительности труда и возможность накопления и изъятия капитала.
Но разве рост доходов работников промышленности не вызовет роста спроса на потребительские товары?
Во-первых, ничто не мешает повысить на них цены. А во-вторых, избыточные средства, которые могли бы пойти на потребление, можно просто изымать – например через государственные займы.
Впрочем, оговаривался Фельдман, рано или поздно капитал можно будет переместить из инвестиционного в потребительский сектор.
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, и должны пробежать это расстояние в 10 лет, иначе нас сомнут»
Но в любом случае другого варианта, кроме как запустить форсированное экономическое развитие через замещение капитала почти бесплатным трудом, у вас нет. Как выразился сам товарищ Сталин, «мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, и должны пробежать это расстояние в 10 лет, иначе нас сомнут».
«Полное отсутствие чувства меры»
В книге «Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР» суть новой экономической модели объяснялась деликатно: «Наша страна совершает беспримерный опыт громадного капитального строительства за счет текущих накоплений, за счет жесткого режима экономии и отказа в удовлетворении потребностей сегодняшнего дня во имя великих исторических задач».
А пролетарский писатель Максим Горький описывал это более образно и с большей прямотой: «Ведь ясно, что для того, чтобы создать свободное и справедливое социалистическое государство рабочих, необходимо вооружиться совершеннейшей техникой, необходимо построить сеть заводов и фабрик, которые дали бы населению страны все, в чем оно нуждается. Население само и должно дать денег на производство всего, что ему необходимо».
Действительно, все было ясно – инструментом изъятия ресурсов из деревни стали колхозы, инструментом обесценивания труда — массовое перемещение крестьян из деревни в город, инструментом ограничения потребления рабочих – государственные займы и рост цен на потребительские товары – с 1927 по 1938 год в пять раз.
Население действительно «дало денег» на все, что от него потребовали, но через двадцать лет использования модели Фельдмана для подстегивания экономического роста, случилось то, о чем писал Сергей Прокопович в книге «Народное хозяйство СССР» изданной в 1952 году: «В нужном и полезном деле индустриализации Советской России власть обнаружила полное отсутствие чувства меры. Поставив основной задачей своей экономической политики производство и приобретение военного снаряжения и машин, она совершенно игнорировала нужды людей, на этих машинах работающих. Рабочий, плохо питающийся, плохо одетый, не имеющий спокойного хорошего жилья, не может давать труд высокой производительности».
Проблема модели роста, предложенной Фельдманом, была в том, что они не указывала, в какой именно момент следует начать переброску ресурсов из инвестиционного сектора в потребительский.
Ответить на этот теоретический вопрос незадолго до смерти попытался сам товарищ Сталин – в работе «Об экономических проблемах социализма в СССР» он предложил вообще не обращать внимания на товарооборот между секторами экономики, а переходить к «прямому продуктообмену» между городом и деревней. Как заметил Георгий Маленков уже после смерти главного советского экономиста, это предложение «было выдвинуто без достаточного анализа и обоснования». Правда, выхода из модели форсированного роста наследники Сталина тоже не придумали.
Механизм роста, запущенный Сталиным по рецептам Фельдмана, остановился сам, как только закончился казавшийся безграничным дешевый трудовой ресурс. В итоге темпы роста социалистической экономики стали падать – сначала в агарном секторе, невзирая на колоссальные объемы перераспределяемых туда инвестиций. А потом рост сменился спадом и в других отраслях. Пришел застой. Но это уже другая история.