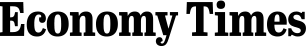Короны и вирусы
Пока политики говорят о возможности экономического кризиса, спровоцированного коронавирусом, экономисты вспоминают, как пандемии меняли траектории политического развития.
Смерть приходит с неба
«В месяце июле лета Господня 1348 приключилось в Англии невиданное, ибо поднялась на востоке страховидная багровая туча, изнутри бурлящая, исполненная зла, и заклубилась вверх по замершему небосводу. Жуткая мгла окутала страну… А злая туча все клубилась, проливаясь нескончаемым дождем. И травы почернели и сгнили. Овцы передохли, и телята тоже, и люди страшились голода, но ждало их испытание, страшнее чем голод. Ибо дождь наконец перестал, и на полях и лугах выросли чудовищные поганки. А вместе с этими гнусными плодами захлебнувшаяся водой земля взрастила Смерть».
Таким поэтическим описанием чумной пандемии начинается роман Артура Конан-Дойля «Сэр Найджел», посвященный приключениям английского рыцаря XIV века.
Чуму, зародившуюся на просторах степей, действительно принесли в Европу торговые караваны с Востока
Все так и было, согласятся историки. Насчет тучи можно поспорить, но чуму, зародившуюся на просторах степей, действительно принесли в Европу торговые караваны с Востока. Глобализация торговли — вовсе не вчерашнее изобретение, и повальные болезни всегда были спутниками купцов. Не обошлось, как водится, без конспирологии. Существует множество рассказов о том, как татары, осаждавшие генуэзское поселение Кафу (нынешняя Феодосия), перебрасывали катапультами через крепостную стену трупы воинов, умерших от чумы. История выглядит устрашающе, но специалисты по применению бактериологического оружия с ней не согласятся, поскольку бубонная чума передается с помощью паразитов, а легочную чуму передает живой носитель.
Крысе, переносящей чумных блох, не надо было летать через крепостные стены, она пробиралась на генуэзские корабли другими, более привычными путями. С этими-то кораблями чума пришла на Сицилию осенью 1347 года и начала свой марш по Южной Европе. Выкосив итальянские города, Черная Смерть перемахнула через Альпы и отправилась собирать свою жатву во Франции, поразила Париж, опустошила Нидерланды, а осенью 1348 года проникла в Англию.
Потери и прибыли
«Умирали — барон у себя в замке, вольный хлебопашец у себя в усадьбе, монах в аббатстве и крепостной в глиняной мазанке. Всех губила одна моровая язва. Никто из сраженных ею не выздоровел, и все умирали одинаково — нарывы, бред и черные пятна, отчего и назвали этот мор Черной Смертью».
Сильнее всех пострадала Англия, где умер каждый второй
Умирали, к счастью, не все, хотя человеческие потери были колоссальны. Если в 1300 году численность населения Европы достигала 94 миллионов человек, то к 1400 году оно сократилось до 68 миллионов. Во Франции погиб каждый четвертый, в Италии каждый третий, но сильнее всех пострадала Англия, где умер каждый второй. До чумы в Англии жило около шести миллионов человек, и к этому показателю страна вернулась только к началу XVIII века.
Всю зиму вдоль английских дорог валялись гниющие трупы, которые некому было хоронить, а во многих деревнях не осталось никого. Однако, утешал Конан-Дойль, за ужасной зимой пришла весна – «самая ласковая весна, какую когда-либо видела Англия».
Что же стало главным поводом для радости? Спрос на труд в Англии значительно превысил его предложение. «Дела предстояло так много, а тех, кто мог его выполнить, осталось так мало! И эти немногие должны были стать свободными, сами назначать плату за свой труд и работать там и на того, как хотелось им».
Действительно, стремительный рост стоимости труда английского крестьянина и ремесленника не был художественным преувеличением писательской фантазии. Цена рабочего дня для самых простых занятий английского поденщика выросла до четырех, а потом и шести пенсов в день, покупательную способность которых сегодня можно условно приравнять не менее чем к пятнадцати фунтам.
Короли против экономики
Весной 1349 года король Эдуард III, взбешенный многочисленными жалобами своих наместников на необходимость платить высокие зарплаты, издал указ, в котором требовал от работников уменьшить свои притязания.
«Мы предписываем каждому в нашем королевстве, буде им предложат работу, соответствующую их статусу, обязательно соглашаться и получать жалование, какое им выплачивалось в двадцатый год нашего царствования [1346]… Работники не должны получать за свой труд более денег, чем они могли бы получить в указанный год; и если кто-либо получит больше, того следует посадить в тюрьму».
Но свирепый король, который был неплохим полководцем, оказался никудышным экономистом и политиком. Эдуард не сообразил, что проводить в жизнь его указ будет некому, поскольку «бароны погибли сотнями и тысячами — ведь ни высокие башни, ни глубокие рвы не могли укрыть их от косы Черной простолюдинки».
Более того, когда королю пришлось набирать войска для похода во Францию, выяснилось, что рыцари не могут привлечь под свое знамя желающих иначе как предложив им поденную плату, не считая будущей доли от военной добычи. Опытный лучник оценивал свое боевое мастерство не меньше, чем в девять, а то и двенадцать пенсов в день, плюс питание и минимальное обмундирование (лук и стрелы наемник приобретал сам).
Понятно, что в заморский поход ушли самые сильные и храбрые, и работников стало еще меньше. А когда английские стрелки начали возвращаться домой с награбленным золотом, цены вновь поднялись.
В 1351 году король издал особый «Статут о работниках», в котором увещевал простолюдинов, проклиная их за то, что они «руководствуясь лишь корыстью и исключительной жадностью, отказываются выполнять работу для благородных, если им не заплатят вдвое или втрое больше того, что они привыкли получать, к великому ущербу для благородных…».
Впрочем, с аналогичными проблемами в своем королевстве столкнулся и современник Эдуарда французский король Иоанн Добрый, которого, как замечал писатель Морис Дрюон, «к несчастью, пощадила чума».
Как раздражённо записывал хронист Жан де Венетт, «несмотря на то, что все было в изобилии, цены на все удвоились: на домашнюю утварь и на еду, как и на товары торговцев, наемный труд, фермерских работников и слуг. Единственным исключением оставались недвижимость и дома, которых и до сих пор наблюдается переизбыток».
Французский король пробовал справиться с кризисом, чеканя монету с пониженным содержанием серебра, а потом удивлялся, почему цены растут еще быстрее, и никто не хочет принимать в уплату деньги с его печатью. Тогда монарх решил поправить дела традиционным королевским способом – войной с англичанами. В этой войне Иоанн потерпел сокрушительное поражение, попал в плен и вынужден был заплатить колоссальный выкуп. Деньги пришли в Англию… и цены на труд выросли еще больше.
«Работники стали настолько надменными и коварными, что не обращают внимания на указы короля. Если кто-то желает нанять их, то ему приходится идти у них на поводу, поскольку либо его плоды или хлеб пропадут, либо он должен потакать высокомерию и жадности работников», сокрушался автор Knighton’s Leicester Chronicle, сочинения, которое служит важным источником наших знаний об английской экономике того времени. Автор хроники, монах-августинец Генри Найтон, каноник богатейшего аббатства святой Марии, был, по-видимому, неплохим предпринимателем – изложению особенностей расчетов с работниками и скрупулезному определению стоимости товаров посвящена немалая часть его сочинения. Именно Найтон обратил внимание на важную особенность английского рынка труда, где причиной роста зарплат была не только нехватка рабочих рук, но и конкуренция между землевладельцами- нанимателями.
«Жестокие законы утратили силу, потому что некому было приводить их в исполнение, а снова наложить раз сброшенные цепи оказалось невозможным», — замечает Конан-Дойль. Действительно, соглашаются современные звезды институциональной экономики Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, «попытка властей остановить спровоцированный «черной смертью» процесс изменения социальных институтов, провалилась».
Запад и Восток
И вот тут мы должны мысленно перенестись из Западной в Восточную Европу, также пострадавшую от чумы. «Коса Черной Смерти» направила хозяйство на славянских равнинах по совсем другой социально-экономической траектории. Малая плотность населения помогла сохранить его большую часть, жертвами эпидемии, по разным оценкам, стало от 5 до 10% жителей средневековой Руси. Но оставшимся пришлось худо.
Если «Черная простолюдинка» потрясла короны на Западе, то на Востоке владельцы корон еще крепче нахлобучили их на свои головы
Если в Западной Европе феодалам не удалось расширить свои владения, то в Восточной Европе уцелевшие князья охотно присоединяли к своим поместьям выморочные земли, разумеется, вместе с оставшимися на них выжившими крепостными. Если на Западе значительный дефицит трудовых ресурсов, вызванный чумой, подорвал экономический фундамент феодализма, то на Востоке, как замечают Аджемоглу и Робинсон, сравнительно небольшой дефицит рабочей силы позволил феодалам еще сильнее эксплуатировать оставшихся работников. Тем, кто присваивал плоды крестьянского труда, было легко найти рынок сбыта – им стала обезлюдевшая Западная Европа. Полученными деньгами князья могли распорядиться по-разному – и самым очевидным путем выглядели вложения в военно-репрессивный аппарат, позволявший выжимать из хлебопашцев последнее. И если «Черная простолюдинка» потрясла короны на Западе, то на Востоке владельцы корон еще крепче нахлобучили их на свои головы. В долгосрочной перспективе Востоку это не помогло.
Изложенная история заставляет нас по-другому взглянуть на институциональные последствия эпидемии китайского вируса. Сейчас не XIV век, ожидать совсем уж повальных смертей все же не приходится, и ныне мировой экономике угрожает не столько реальный ущерб от эпидемии, сколько степень его негативного эмоционального восприятия со стороны инвесторов.
Ни сэр Найджел, ни король Эдуард совершенно не интересовались, чем живут их коллеги в Восточной Европе и какими повинностями облагают своих крестьян – главное, что зерно и пушнина поступали из восточных земель бесперебойно. Но в XXI веке придется искать ответ на вопрос, почему ставка на превращение Китая в мировую промышленную зону оказалась не так уж хороша для глобальной экономики. И почему раз за разом смертельные эпидемии выходят из-под контроля именно там, где, кажется, под контроль поставлено все, что можно. Как и семьсот лет назад, опасная болезнь проверит на прочность не столько экономические, сколько политические и социальные институты.